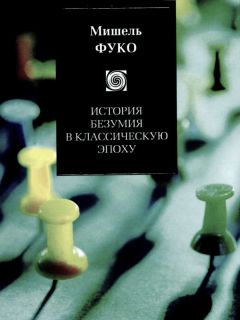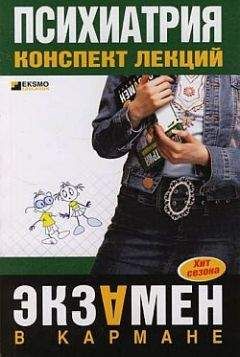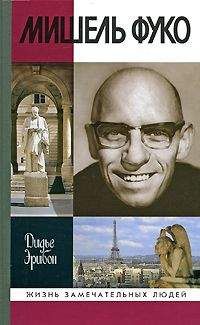отношению к тирании, – говорит Сен-Жюст, – это личное право».
* * *
Вся эта дискуссия по поводу процесса над королем, шедшая с конца 1792 до начала 1793 г., кажется мне очень важной не только потому, что в ней заявляет о себе первый крупный юридический монстр – политический враг, король, – но и потому, что в XIX веке, особенно во второй его половине, все приведенные рассуждения окажутся перенесенными и применяющимися в совершенно другой области, где при посредстве психиатрических, криминологических и других анализов (от Эскироля до Ломброзо) обычный, повседневный преступник тоже будет прямо квалифицироваться как монстр. С этого момента преступник-монстр будет вызывать вопрос: а следует ли, собственно говоря, применять к нему законы? Не должно ли общество просто избавиться от него как от существа монструозной природы и всеобщего врага, не прибегая к своду законов? Ведь преступник-монстр, прирожденный преступник, в сущности, никогда не подписывался под общественным договором; так относится ли он к ведению законов? Следует ли применять к нему законы? Во второй половине XIX века мы встречаем проблемы, присутствовавшие в дебатах об осуждении, о формах осуждения Людовика XVI, перенесенными на прирожденных преступников, на анархистов, которые тоже отвергают общественный договор, на всех преступников-монстров, на всех этих великих номадов, блуждающих в окрестностях общественного тела, но не признаваемых этим телом в качестве своей части.
В то же время с описанной юридической аргументацией перекликается не менее важная, на мой взгляд, образность – карикатурная, полемическая образность короля-монстра, являющегося преступником вследствие своей, так сказать, противоестественной природы, неотъемлемо ему присущей. Именно в эту эпоху поднимается проблема монструозного короля, именно в эту эпоху создается целый ряд книг, настоящие анналы королевских преступлений от Нимврода до Людовика XVI, от Брунгильды до Марии-Антуанетты. Тут можно привести книгу Левассёра «Коронованные тигры», «Злодеяния французских королев» Прюдома, «Ужасающие истории жестоких преступлений, бывших обычным делом королевских семей» Мопино, вышедшие в 1793 г. и заслуживающие особого интереса, так как в них выстраивается оригинальная генеалогия королевской власти.
Мопино утверждает, что институт королевства возник следующим образом. На заре человечества существовало две категории людей: одни посвящали себя земледелию и скотоводству, а другим выпадала обязанность охранять первых, так как кровожадные хищники могли съесть женщин и детей, уничтожить урожай, истребить стада и т. д. Поэтому возникла необходимость в охотниках, способных защищать общину земледельцев от диких зверей. Затем пришло время, когда охотники стали столь искусны, что дикие звери исчезли. Нужда в охотниках пропала, но, обеспокоившись своей бесполезностью, которая могла лишить их привилегий, коими они пользовались как охотники, они сами превратились в диких животных и повернулись против тех, кого прежде защищали. И стали сами нападать на стада и семьи, которые должны были охранять. Они были волками в человеческом обличье. Они были тиграми первобытного общества. И короли ничем не отличаются от этих тигров, от этих древних охотников, которые заняли место диких зверей, окружавших первобытные поселения.
* * *
Это была эпоха книг о королевских преступлениях, это была эпоха, когда Людовик XVI и Мария-Антуанетта изображались в памфлетах как пара кровожадных монстров, как объединившиеся шакал и гиена. И при всей конъюнктурности этих текстов, при всем их пафосе, они остаются очень важными по причине включения под рубрику человеческого монстра целого ряда тем, которые будут сохраняться на всем протяжении XIX века. Особенно буйно эта тематика монстра расцветает вокруг Марии-Антуанетты, которая концентрирует в себе на страницах тогдашних памфлетов множество черт монструозности. Прежде всего, конечно, она заведомо иностранка, а потому не принадлежит к общественному телу. Как следствие, по отношению к общественному телу страны, где она правит, она – дикое животное или, во всяком случае, нечеловеческое существо. Более того, она – гиена, людоедка, «тигрица», которая, как говорит Прюдом, «узрев […] кровь, становится ненасытной». Живое воплощение каннибализма, антропофагии властителя, питающегося кровью своего народа. И к тому же это скандалистка, распутница, предающаяся самому отъявленному разврату, причем сразу в двух ключевых его формах. Во-первых, инцесту, ибо из книг, из памфлетов о Марии-Антуанетте мы узнаём, что еще ребенком она была обесчещена своим братом Иосифом II, затем стала любовницей Людовика XV, а затем перешла к его шурину, так что дофин, вероятно, является сыном графа д’Артуа.
Чтобы передать настрой этой литературы, я процитирую вам фрагмент вышедшей в I году революции книги «Распутная и скандальная частная жизнь Марии-Антуанетты», посвященный отношениям будущей королевы и того самого Иосифа II: «Амбициознейший властитель, совершенно аморальный человек, достойный брат Леопольда – вот кто первым испробовал королеву Франции. Визит царственного приапа в австрийский канал посеял там, если так можно выразиться, страсть к инцесту и наимерзейшим наслаждениям, неприязнь к Франции [rectius: к французам], отвращение к супружеским и материнским обязанностям – словом, все то, что низводит человека до уровня диких зверей».
Итак, вот вам инцестуозность, а рядом с нею – еще одно тяжкое сексуальное преступление: Мария-Антуанетта гомосексуальна. И тут снова связи с эрцгерцогинями, сестрами и кузинами, дамами свиты и т. д. Как мне кажется, для этой первой презентации монстра на горизонте юридической практики, мысли и воображения конца XVIII века характерна пара: антропофагия – инцест, сочетание двух основных запретных утех. Со следующим уточнением: главную партию в первом явлении монстра исполняет, на мой взгляд, именно Мария-Антуанетта, фигура разврата, сексуального разврата, и в частности инцеста.
* * *
Но наряду с королевским монстром в это же время в литературном стане противника, то есть в антиякобинской, контрреволюционной литературе, вы столкнетесь с другой яркой фигурой монстра. И на сей раз монстр уже не злоупотребляет властью, но разрывает общественный договор посредством бунта. Уже не как король, но как революционер, народ оказывается точь-в-точь перевернутым изображением кровавого монарха. Гиеной, набрасывающейся на общественное тело. В монархической, католической и т. п., в том числе в английской литературе революционной эпохи, вы найдете перевернутый образ той самой Марии-Антуанетты, которую рисовали якобинские и революционные памфлеты. Другое лицо монстра открывается в связи с сентябрьскими побоищами: теперь это народный монстр, разрывающий общественный договор, так сказать, снизу, тогда как Мария-Антуанетта и сам король расторгли его сверху. Так, госпожа Ролан, описывая сентябрьские события, восклицает: «Если бы вы только знали, какими страшными деталями сопровождались эти выступления! Женщины, жестоко насилуемые, а затем разрываемые этими зверьми на части, вырванные кишки, надетые вместо орденских лент, кровь, стекающая по лицам пожирателей людского мяса!»
Барюэль в «Истории церкви революционного времени» описывает случившееся с графиней де Периньон, которую вместе с двумя ее дочерьми поджарили на площади Дофин, после чего там же сожгли заживо шестерых священников, отказавшихся есть жареное мясо несчастной. Тот же Барюэль рассказывает