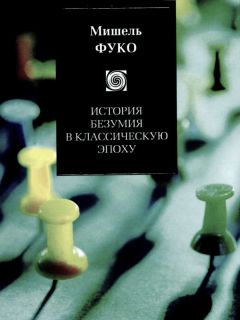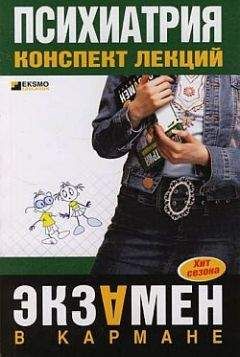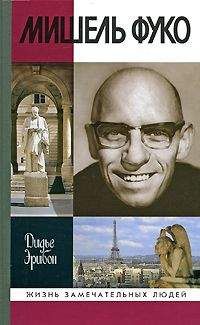объединенные двойственной фигурой сексуального преступника и людоеда, будут иметь хождение в течение всего XIX века, постоянно обнаруживаясь на границах психиатрии и уголовной практики. Они же придадут рельефность ярчайшим криминальным фигурам конца XIX века. Среди них Ваше во Франции, Дюссельдорфский вампир в Германии, а главное, Джек-Потрошитель в Англии, который не просто потрошил проституток, но и был, по всей вероятности, связан довольно близким родством с королевой Викторией. Монструозность народа и монструозность короля вдруг снова сошлись вместе в его странной фигуре.
Людоед – народный монстр, кровосмеситель – царственный монстр, – две эти фигуры впоследствии послужили логической решеткой, подступом к целому ряду дисциплин. Разумеется, я имею в виду этнологию – возможно, и ту этнологию, что рассматривается как выездная практика, но прежде всего этнологию как академическую рефлексию над так называемыми примитивными народностями. Но если посмотреть на то, как формировалась академическая антропология, взяв, к примеру, сочинения Дюркгейма, пусть не как исходную точку, но [по крайней мере] как первый значительный образец этой университетской дисциплины, то выяснится, что ее проблематика складывалась вокруг тех же самых тем инцеста и антропофагии. Константой в изучении примитивных обществ был тотемизм, – и о чем же говорит тотемизм? Да вот о чем – о кровной общности: о животном как средоточии сил группы, ее энергии и жизнеспособности, самой ее жизни. Далее – проблема ритуального съедания этого животного. То есть впитывания общественного тела каждым, или растворения каждого в тотальности общественного тела. За тотемизмом, с точки зрения самого Дюркгейма, просматривается ритуальная антропофагия как момент экстаза общности, и такие моменты для Дюркгейма есть просто-напросто моменты максимального возбуждения, ритмично повторяющиеся на фоне вообще-то устойчивого и регулярного состояния общества. Устойчивого и регулярного состояния, характеризуемого чем? Как раз тем, что общинная кровь находится под запретом: нельзя прикасаться к людям из своей общины, и прежде всего к женщинам. Шумное тотемное пиршество, часто сопряженное с людоедством, – это всего-навсего регулярный всплеск общества, в котором действует закон экзогамии, запрет на кровосмешение. Есть время от времени безоговорочно запрещенную пищу, а именно человека, но при этом не позволять себе прикасаться к собственным женщинам: наваждение людоедства и отказ от инцеста. Вот эти две проблемы обусловили, определили для Дюркгейма, как, впрочем, и для его последователей, развитие антропологической дисциплины. Чем ты питаешься и на ком ты не женишься? С кем ты вступаешь в кровную связь и что ты имеешь право употреблять в пищу? Брак и кухня: вы отлично знаете, что эти вопросы занимают теоретическую и академическую антропологию и по сей день.
* * *
Именно с этими вопросами, основываясь на проблемах инцеста и антропофагии, наука и подходит ко всем мелким монстрам истории, ко всем этим внешним границам общества и экономики, порождаемым примитивными народностями. Коротко можно сказать следующее. Те антропологи и теоретики антропологии, которые предпочитают точку зрения тотемизма, то есть, в конечном счете антропофагии, приходят к этнологической теории, в соответствии с которой наши общества оказываются абсолютно чуждыми и далекими для нас самих, ибо их отсылают прямиком к первобытному людоедству. Это Леви-Брюль. Наоборот, если мы рассматриваем явления тотемизма по законам брака, то есть забываем о теме людоедства и сосредоточиваемся на анализе норм брака и символического круговращения, то в итоге приходим к этнологической теории как объяснительному принципу примитивных обществ и к переоценке их мнимой дикости. Это, вслед за Леви-Брюлем, Леви-Строс. Но так или иначе антропологи не избегают «вилки» каннибализм – инцест, не проходят мимо династии Марии-Антуанетты. То великое внешнее, великое другое, определения которого с XVIII века ищет наш политико-юридический внутренний мир, неизменно оказывается каннибалистически-инцестуозным.
То же, что относится к этнологии, бесспорно и в еще большей степени, как вы знаете, относится к психоанализу, ибо если антропология шла по пути, который привел ее от исторически первой для нее проблемы тотемизма, то есть антропофагии, к сравнительно недавней проблеме запрета на инцест, то история психоанализа, можно сказать, развивалась в противоположном направлении, и логическая решетка, приложенная Фрейдом к неврозу, была решеткой инцеста. Инцест: преступление королей, непомерной власти, преступление Эдипа и его семьи. Вот вам логика невроза. А затем, у Мелани Клейн, и логика психоза. Логическая решетка, выстроенная исходя из чего? Исходя из проблемы поглощения, интроекции хороших и плохих объектов, каннибализма уже не как преступления королей, но как преступления голодных.
Мне кажется, что человеческий монстр, чьи контуры начала очерчивать в XVIII веке новая экономика карательной власти, является фигурой, в которой коренным образом переплетаются две великие темы: кровосмешение королей и каннибализм нищих. Именно эти две темы, сложившиеся в конце XVIII века в рамках нового режима экономики наказаний и в частном контексте Великой французской революции, а вместе с ними две ключевые для буржуазной мысли и политики формы беззакония – деспотический властитель и восставший народ, – именно эти две фигуры и по сей день бороздят поле аномалии. Два великих монстра, которые возвышаются над областью аномалии, доныне не смыкая глаз, – в чем убеждают нас этнология и психоанализ, – есть не кто иные, как два великих героя запретного потребления: король-кровосмеситель и народ-людоед…
* * *
Теперь, для того чтобы полнее охарактеризовать такую важную фигуру в аномалии как мастурбатор, я намерен попытаться проследить эволюцию контроля над сексуальностью в христианских, прежде всего католических, учебных заведениях школьного уровня в XVII и XVIII [rectius: XVIII и XIX] веках. С одной стороны, в это время все отчетливее проступает тенденция к ограничению той нескромной словоохотливости, той дискурсивной пристрастности к телу желания, которая отличала техники руководства душами в XVII веке. Делаются попытки, в некотором смысле, успокоить словесные бури, разгоравшиеся вокруг самого анализа желания и удовольствия, анализа тела. Теперь исповедники стараются сглаживать, вуалировать, метафоризировать эти темы, разрабатывают целую стилистику сдержанности в исповеди и руководстве совестью: об этом пишет Альфонсо де Лигуори. Но в то же время, сглаживая, вуалируя, метафоризируя, вводя правило если не молчания, то, во всяком случае, discretio maxima [58] сооружают целые здания, определяют расположение мест и предметов, ищут новые принципы устройства дортуаров, институциализации надзорных инстанций, планирования классных комнат и расположения в них стульев и столов; организуемое столь тщательно (ищут нужную форму, устройство уборных, высоту дверей, избегают темных углов) пространство видимости в школьных учреждениях сменяет собою и заставляет умолкнуть нескромный разговор о плоти, который подразумевало руководство совестью. Иначе говоря, материальные устройства призваны сделать просто бесполезными все эти взволнованные разглагольствования, которые в XVI–XVII веках ввела в обиход христианская техника, чьи контуры очертил Тридентский Собор.
Чем теснее будет ограждение тел, тем более деликатным и