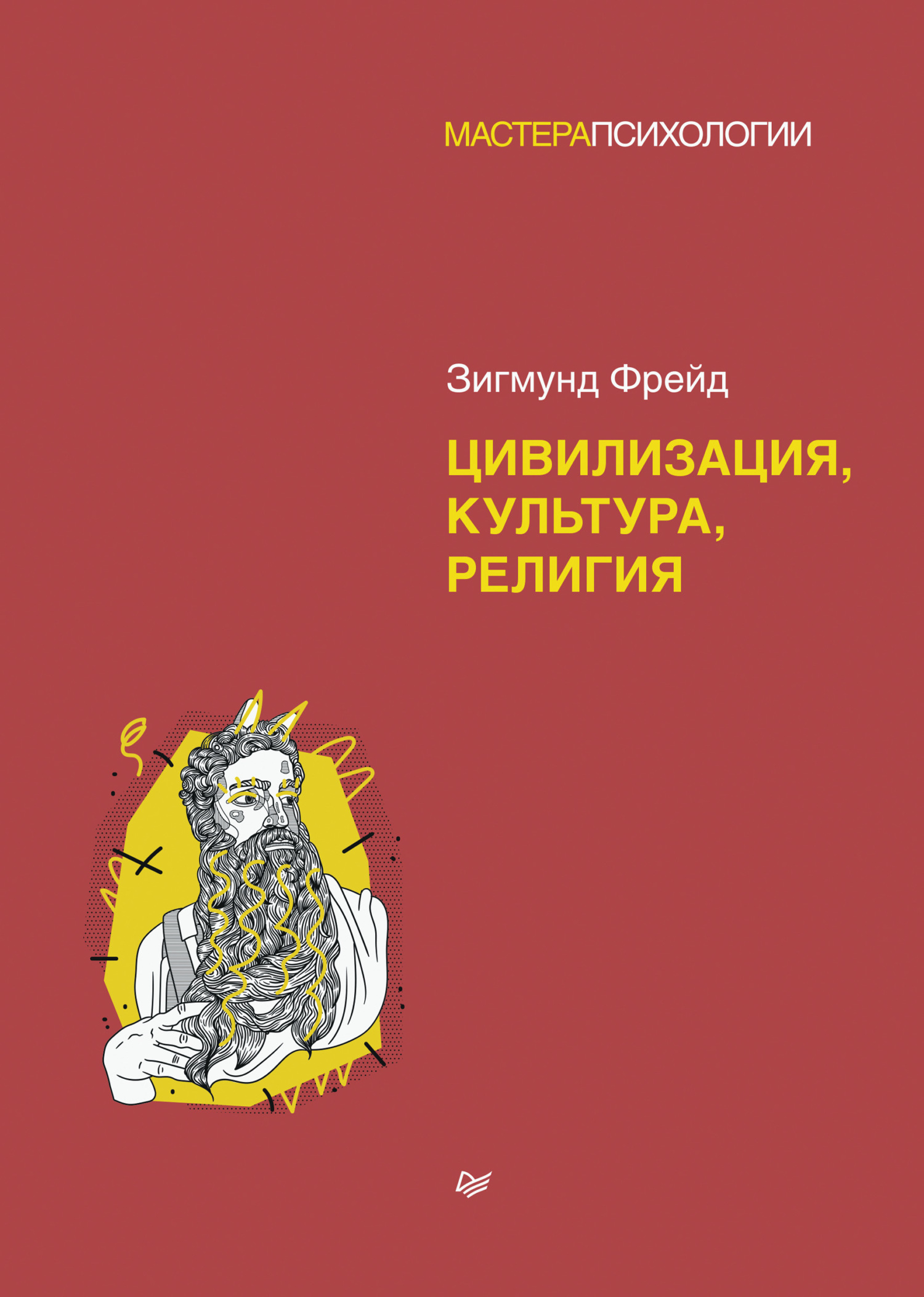уже не только опасности внешнего мира, но также и протест
Сверх-Я, получая тем самым лишние поводы для воздержания от влечений. Но если отказ от влечений по внешним причинам лишь неприятен, отказ по внутренним основаниям, из послушания
Сверх-Я, вызывает иное экономическое следствие. Кроме неизбежной неприятности, он доставляет также и определенное удовольствие для
Я, некое эрзац-наслаждение
. Я ощущает себя приподнято, гордится отказом от влечения как ценным достижением. Мы, похоже, понимаем механизм наслаждения такого рода
. Сверх-Я – преемник и представитель родителей (и воспитателей), надзиравших за поведением индивида в первый период его жизни;
Сверх-Я почти без изменения перенимает функции старших
. Сверх-Я ввергает
Я в длительную зависимость, осуществляя на него постоянное давление. Точно как в детстве,
Я озабочено тем, чтобы не рисковать любовью этого властителя, похвалу с его стороны воспринимает как освобождение и удовлетворение, упрек – как укор совести. Когда
Я пожертвовало в пользу
Сверх-Я тем или иным влечением, оно ожидает в награду увеличение любви к себе. Сознание, что любовь эта заслуженна, вызывает гордость. В эпоху, когда авторитет еще не был вобран внутрь в качестве
Сверх-Я, отношение между грозящей утратой любви и зовом влечения могло быть аналогичным. Когда из любви к родителям ребенок осуществлял отказ от влечения, наступало чувство безопасности и удовлетворения. Особый нарциссический характер гордости мог появиться у этого доброго чувства лишь после того, как сам авторитет стал частью
Я.
Что дает нам этот анализ удовлетворения через отказ от влечения для понимания изучаемых нами процессов подъема самосознания при прогрессе духовности? На первый взгляд, очень мало что. Ситуация тут совсем иная. Дело уже не идет ни о каком отказе от влечений, и отсутствует второе лицо или инстанция, ради которой приносится жертва. В отношении второго утверждения мы скоро начинаем колебаться. Можно сказать, что великий человек и есть тот авторитет, ради кого люди идут на многое, а поскольку великий человек действует в силу своего сходства с фигурой отца, то мы не вправе удивляться, если в массовой психологии ему отводится роль Сверх-Я. То же самое, стало быть, надо думать и о великом человеке Моисее в его отношении к еврейскому народу. В прочих пунктах, однако, строгая аналогия не прослеживается. Прогресс духовности заключается в том, что за счет прямых чувственных восприятий делается выбор в пользу так называемых высших интеллектуальных процессов, а именно – воспоминаний, рассуждений, умозаключений. Так что, скажем, отцовство признается более важным, чем материнство, хотя первое, в отличие от последнего, недоказуемо показаниями чувств. Ребенок должен отныне носить имя отца и вступать в его наследство. Или: наш Бог величайший и могущественный, хотя он невидим, как бурный ветер и душа. Отвержение сексуального или агрессивного импульсивного требования кажется чем-то совершенно отличным от этого. Кроме того, при многих успехах духовности, например при победе отцовского права, не удается указать на авторитет, задающий меру тому, что должно почитаться за высшее. Отец таковым здесь являться не может, ведь он впервые возводится в авторитет этим самым прогрессом. Мы стоим, таким образом, перед феноменом, что в развитии человечества чувственность постепенно пересиливается духовностью и что люди от каждого такого шага вперед ощущают гордость и подъем. Мы, однако, не умеем сказать, отчего так должно быть. Позднее произойдет еще и то, что сама духовность будет преодолена вполне загадочным эмоциональным феноменом веры. Это знаменитое credo quia absurdum, и сам автор сего нововведения рассматривает его как высокое достижение. Возможно, общая черта всех подобных психологических ситуаций несколько иная. Возможно, человек просто объявляет более высоким то, что более трудно, и его гордость есть не что иное, как нарциссизм, обостренный сознанием преодоленной трудности.
Всё это, конечно, малоплодотворные соображения, и можно было бы подумать, что они вообще не имеют отношения к нашему исследованию причин, определивших характер еврейского народа. Это было бы нам только выгодно, однако определенная принадлежность к нашей проблеме дает о себе знать благодаря одному обстоятельству, которое в еще большей мере завладеет нашим вниманием позднее. Религия, начавшаяся с запрета создавать изображение божества, в течение столетий всё более превращается в религию отказа от влечений. Не то что она требовала бы сексуального воздержания, она довольствуется заметным сужением сексуальной свободы. Но Бог полностью выносится за пределы сексуальности и возводится в идеал этического совершенства. А этика представляет собой ограничение влечений. Пророки неустанно внушают, что Бог ничего другого от своего народа не требует, кроме как праведного и добродетельного жизненного поведения, а стало быть, воздержания от всякого удовлетворения влечений, которые еще и нашей сегодняшней моралью тоже осуждаются за греховность. И даже требование верить в него, похоже, отступает на второй план рядом с серьезностью этих этических требований. Тем самым представляется, что отказ от влечений играет выдающуюся роль в религии, даже если не фигурирует в ней от самого начала.
Здесь, однако, есть место для возражения, призванного отвести одно недоразумение. Хотя и кажется, что отказ от влечений вместе с основанной на нем этикой не принадлежит к существенному содержанию религии, однако генетически между ними имеется теснейшая связь. Тотемизм, первая известная нам форма религии, имеет неотъемлемой частью системы целый ряд заповедей и запретов, естественно, означающих не что иное, как воздержание от влечений: почитание тотема, включающее запрет вредить ему или убивать его; экзогамия, т. е. отказ от страстно желанных матерей и сестер внутри орды; признание одинаковых прав для всех членов братского союза, т. е. ограничение тенденции к насильственному соперничеству среди них. В этих установлениях мы должны видеть первые начала нравственного и социального порядка. От нас не скрыто, что здесь дают о себе знать две различных мотивировки. Два первых запрета сформулированы в смысле устраненного отца, они как бы продолжают его волю; третий завет, равноправие братьев-союзников, отступает от воли отца, обосновывается необходимостью долговременного поддержания нового порядка, сложившегося после устранения отца. Иначе неизбежным оказался бы регресс к прежнему состоянию. Здесь социальные заповеди отслаиваются от прочих, которые, мы можем сказать, вытекают непосредственно из религиозных отношений.
В ходе сокращенного развития отдельного человеческого существа повторяются важные моменты этого процесса. Здесь тоже авторитет родителей, прежде всего отца, грозящего от своей неограниченной власти наказанием, толкает ребенка на отказ от влечений, устанавливая за него, что ему позволено и что ему запрещено. То, что в отношении ребенка называется «послушным» или «скверным», позднее, когда на место родителей встанут общество и Сверх-Я, назовется «хорошим» и «плохим», добродетельным или греховным, однако речь всё время об одном и том же – об отказе от влечений под давлением заменяющего его, продолжающего его авторитета.
Понимание всего