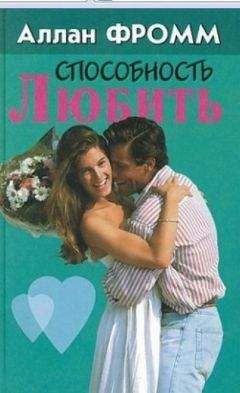Романтическая любовь отвечает буквально всем критериям формы искусства. Подобно искусству, она заменяет собой реальность. Она заинтересована не в буквальной истине науки, а в символической правде искусства.
Возьмем, например, один из самых романтических произведений — «Грозовой перевал»[60]. Если посмотреть на сюжет буквально, как на отчет о действительно происходивших событиях, то пришлось бы признать, что он больше всего напоминает клиническое описание невроза одержимости. И это даже не очень интересная история болезни. В психологической литературе описаны гораздо более яркие случаи.
Но если воспринимать роман не буквально, если признать его заменой фактической реальности, мы увидим в его преувеличениях глубокую истину — истину, справедливую для всех влюбленных. Дикая, горькая, мучительная любовь Хитклифа к утраченной Кэтрин превращается в подлинно разрушительную силу, которую испытывали и многие другие люди, не способные контролировать сильнейшие желания, из которых вырастает любовь.
Чтобы выразить свою символическую правду, романтическая любовь отбирает и преувеличивает значительные характеристики и буквально игнорирует все, что не имеет прямого отношения к ее цели. Это справедливо и по отношению к искусству вообще. Микеланджело, например, знал анатомию не хуже любого врача своего времени и, вероятно, гораздо лучше большинства врачей. Он мог бы делать рисунки к анатомическим текстам, как Тициан и его ученики, которые иллюстрировали анатомические трактаты великого врача и учителя из Падуи Везалия. Но когда Микеланджело создавал статую Давида для города Флоренции, он сделал Давида ростом в пятнадцать футов, что, с точки зрения анатомии, вздор. Он лепил тело Давида нежно и тонко, чтобы показать, что это еще совсем мальчик, не тронутый временем и несправедливостями жизни. А потом в кажущемся противоречии сделал правую руку юноши непропорционально огромной.
Он поступил так потому, что в фигуре Давида что-то должно было указывать на силу, стоявшую за пращой, которая убила Голиафа. Микеланджело вольно обошелся с фактами, чтобы символически рассказать правду о Давиде, показать его молодость, нежность и одновременно силу — не только руки, но и духа. В конце концов, юноша ведь смело пошел на бой с гигантским, хорошо вооруженным, закаленным в битвах воином, хотя сам был всего лишь мальчиком. Точное изображение Давида в виде простого мальчика было бы хорошим отчетом, но не было бы искусством.
Возьмем в качестве другого примера «Птицу в полете» Бранкучи[61] — сверкающий цилиндрический объект, совсем не похожий на птицу. И тем не менее в нем выражена суть полета. Скульптор отвлекается от фактов и отбирает только то, что передает движение птицы в полете. Он отбирает и преувеличивает только один аспект и на его основе создает свое произведение. И мы видим полет птицы даже наглядней, чем если бы это была фотография реальной птицы в реальном полете. Мы уловили суть полета.
Точно то же самое мы делаем с романтической любовью. Мы отбираем какую-то часть своих чувств и преувеличиваем их. Влюбленный говорит своей девушке: «Ты для меня единственная на свете». Буквально это неправда. Он оказался здесь, и она оказалась здесь, и железы их действуют, и наступила весна, а может действовать и множество других факторов.
Он может быть весьма практично мыслящим человеком и действовать по совету песни из «Радуги Финиана»[62]: «Если не можешь быть с девушкой, которую любишь, люби девушку, которая к тебе поближе». Если он так и скажет девушке, вряд ли она будет расположена в его пользу. Но если он говорит: «Ты для меня единственная на свете», он получает благоприятную реакцию не только от нее, но и от себя самого. Он придает своим чувствам пэандиозность и сам при этом словно растет. Так он более полно ощущает любовь.
Любовь украшает, любовь усиливает
Влюбленный видит в любимой больше, чем кто-нибудь другой. Он восхищается ее внешностью, преувеличивает красоту лица, фигуры или личности. Он вкладывает в нее то, чего в ней нет, но это неважно: он хочет, чтобы так было, он в ней это видит и любит ее за это. Как мы знаем, романтическая любовь создает несуществующий облик возлюбленной. Влюбленный почти не знает реальную девушку. Он влюблен в ее идеальный образ или в такую, какой он хотел бы ее видеть. Аналогично и возлюбленная делает то же самое: она любит свое представление об избраннике или то, каким хочет, чтобы он был.
Все это неразумно. И с учетом того, что произойдет позже, когда влюбленные вступят в брак, абсолютно непрактично. Но вдобавок к рациональным, практичным, эффективным аспектам жизни существует еще и декоративный, артистический аспект. Потребность украшать, создавать красоту есть у всех нас. Мы можем проследить ее вплоть до первобытного человека. На каменной стене пещеры первобытный охотник рисует оленя. Он также украшает свое оружие и свои инструменты. Он изготовляет из оленьего рога нож, а потом украшает его. Вырезает на нем рисунок.
Можно назвать этот первый нож образцом прикладного искусства. Когда первобытный охотник сыт и находится в своей пещере в безопасности, в свободное время он украшает окружающее, тем самым добавляет к своей жизни чисто декоративный элемент. Это мы называем чистым искусством.
И если романтическая любовь — искусство, она тоже должна обладать декоративными свойствами. Оно так и есть. Любовь приукрашивает любящих и все аспекты их любви. Соседская девушка может быть всего лишь доброй Элейн. Но влюбитесь в нее, и она превратится в «Элейну прекрасную, Элейну белокурую, девушку-лилию из Астолата»[63]. Одна слеза из глаз любимой способна подействовать на нас сильней, чем вода семи морей. Встреча с возлюбленной — высочайшая драма, расставание с ней — величайшая трагедия.
Привлекательность романтиков заключается еще и в том, что они сражаются за освобождение чувств. Их восстание против ограничений, которые накладывает на чувства разум, все еще остро осознается нами. Дело в том, что у нас мало возможностей для выражения чувств. Часто мы даже не решаемся признаться в том, что у нас есть чувства. Мы живем в обществе, которое позволяет проявлять чувства только в особых обстоятельствах. В большинстве ситуаций, даже самых эмоциональных, признаком хороших манер, цивилизованности являются сдержанность перед лицом бед, горестей или боли, умение не демонстрировать свои чувства.
Самодисциплина помогает справляться с болезненными эмоциями. Проявления горя, разрешаемые в других культурах, например вопли неаполитанской матери над мертвым сыном, нами воспринимаются как нечто угрожающее. Мы справляемся со своими эмоциями не обязательно лучше, но по-другому.
Даже когда мы счастливы, мы тоже проявляем сдержанность. Этого мы ожидаем не только от себя, но и от других. Это требование подразумевает, что в чувствах есть что-то нехорошее: или ребяческое, или примитивное, или животное, во всяком случае что-то неловкое. Когда человек в гневе или протесте стучит кулаком по столу, окружающие подпрыгивают — он ведет себя как грубиян. Но романтическому влюбленному позволено свободно выражать чувства и делать это настолько драматично, насколько он способен. И только из-за одной этой свободы можно позавидовать романтической любви.
Свобода выражения чувств — теперь часть нашей политической традиции. Американская и французская революции обосновали ценность индивида, вплоть до его самых раздражающих чувств. Так, по крайней мере, утверждается в принципе, и права индивида тщательно защищены нашей Конституцией, первыми десятью поправками к ней, а также множеством судебных решений.
Однако столетиями существуют также неписаные законы, ограничивающие проявления чувств. Это тонкие социальные силы, стандарты поведения, которые заставляют нас сдерживать эмоции. Сегодня, когда мы лучше понимаем, что происходит со сдерживаемыми эмоциями, мы стараемся разрешать детям выражать самые сильные чувства.
Совсем недавно ребенка, который сказал что-то неуважительное отцу или матери, пороли или мыли ему рот с мылом. Сегодня мы не одобряем наказания. Если ребенок никогда не проявляет сильные чувства, это означает, что мы слишком его контролируем, слишком авторитарно воспитываем.
Детским психологам пришлось бороться за свободу проявления чувств ребенком. Пришлось учить родителей разумно подходить к этой свободе, потому что мы не можем ради свободы самовыражения допустить физически вредное или опасное поведение. Однако, даже став взрослыми, мы и себе и другим позволяем лишь очень небольшие Отклонения.