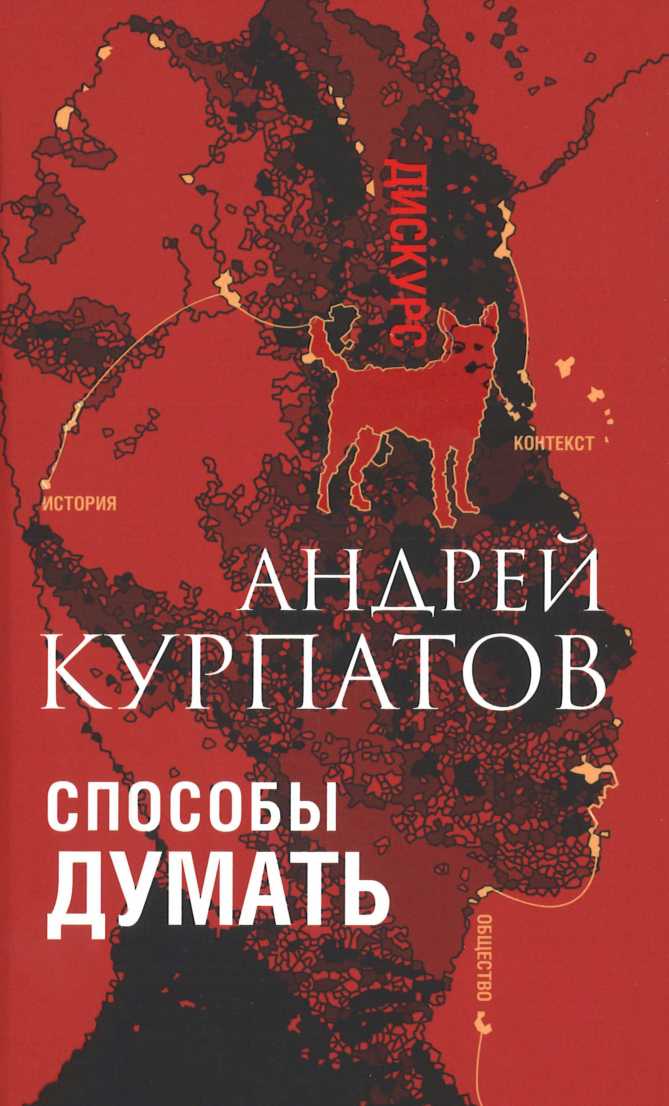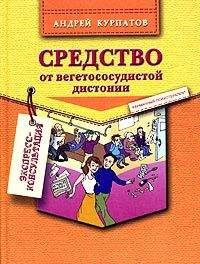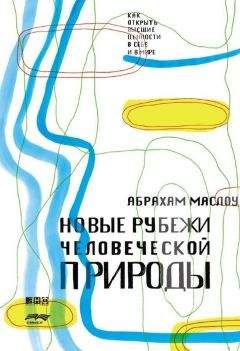право сохраниться в нашем мозге, стать долговременной памятью. Но насколько «разумной» и «осмысленной» с точки зрения логики и здравого смысла является эта бесконечная «борьба за выживание» отдельных наших воспоминаний? Отвечу однозначно: никакой разумности здесь и не предполагается — тут кому как (из воспоминаний) свезёт, да ещё как со стороны внешней стимуляции карта ляжет.
Насколько объективной выйдет картина в конечном итоге? Большой вопрос. Да что уж там говорить, если даже наша собственная история — «автобиографическая память», как её называют, — судя по огромному массиву современных исследований, от ссылок на которые я читателя избавлю, позволяет себе самые чудесные превращения! Мы способны «помнить» себя не только такими, какими мы не были, но и такими, какими мы в принципе не могли быть (учитывая наш возраст на тот момент, багаж знаний и т. д., и т. п.).
Время, история и память… Перечисляя эти слова, трудно отделаться от ощущения, что невозможное действительно возможно.
Итак, нам явлена полноценная завязка пьесы: наша память о «прошлом» конституирует наше «будущее» и таким образом определяет наше поведение «сейчас», при этом время — это история, история — это память, а с памятью нашей, как мы все могли сейчас заметить, всё очень и очень непросто.
АКТ ВТОРОЙ: ХИМЕРА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Сейчас я позволю себе высказать весьма субъективную точку зрения на оппозицию двух выдающихся нарративистов — Хейдена Уайта и Франклина Анкерсмита. Почему последний не понял первого? Проблема, как мне представляется, в «трудностях перевода», точнее говоря — в буквальности перевода Анкерсмитом и самого понятия «нарратива», и в определённом смысле всей взятой в общем и целом знаменитой «Метаистории» Уайта.
Исторический нарратив — это, грубо говоря, рассказ. И Анкерсмит, пока он был приверженцем нарративного понимания истории, считал, что она — история — суть связь множества разнообразных сюжетных историй (рассказов), каждая из которых по самой своей природе не только описывает, но и, что очень важно, интерпретирует исторические факты. Таким образом, История зависит от каких-то там рассказчиков (их интерпретаций), а те — люди, как известно, бесконтрольные — бог знает что кому могут понарассказывать. Во второй половине 1980-х все это показалось Ан-керсмиту как крупному теоретику каким-то странным и мелким, и он сменил курс, двинувшись на теоретические просторы, которые сам же и означил как «исторические опыты». От историй Истории, так скажем, к живому переживанию Ея. Будучи психиатром, я даже боюсь себе это представить…
Хейден Уайт на фоне подобных — нарочито серьёзных и обстоятельных — размышлений Анкерсмита о философии истории выглядел самым настоящим анфан тер-рибль: сначала объявил историю текстом, затем притянул за уши к этим текстам литературоведческую, по сути, теорию троп, а в конце концов и вовсе превратил историю в странное подобие жанровой литературы — туту него История и в виде Романа, и в виде Комедии, и в виде Трагедии, Сатиры, Иронии… Бог знает что такое! Впрочем, Анкерсмит не был одинок в своём, мягко говоря, сдержанном оптимизме по отношению к «Метаистории» Уайта — автора не поняли девять из десяти историков.
Чтобы уловить сущностный замысел этой странной, прямо скажем, книги, нужно иметь в виду две вещи: во-первых, Уайт — убежденный марксист (историко-философского толка, разумеется), то есть революционер, а во-вторых, он представляет собой последовательного и чрезвычайно тщательного структуралиста, но никак не постмодерниста, которым его тут же обозвали, едва прочитали оглавление «Метаистории» (пригвоздив тем самым тушку её автора к позорному столбу контракадемической ереси).
На самом деле Уайт просто играл со структурами, как и положено уважающему себя структуралисту, а ещё провернул быструю, но победоносную революцию в исторической науке — всё-таки марксист, как-никак. Самое забавное во всём этом, по крайней мере для меня, что не понял этого фокуса Уайта не кто-нибудь, а именно Анкерсмит, который обожает Фрейда, цитируя его на страницах своих произведений и в интервью по меньшей мере как святого отца. Забавляет меня это потому, что совершенно аналогичную методологическую авантюру провернул в своё время и Зигмунд Фрейд. Фрейд, как известно, не открыл ничего нового и из ряда вон выходящего (у каждой его идеи есть предшественники, фактически осуществившие всю необходимую предваряющую научно-исследовательскую работу). Заслуга Фрейда не в этих открытиях и даже не в их компиляции в рамках единой теории психоанализа, а в том, что он раз и навсегда лишил трона царствовавшего до того момента «субъекта» Рене Декарта. Всё, что мы думаем и делаем, сказал Фрейд, не имеет никакого отношения к разумности, подлинные наши мотивы не таковы, каковыми они нам представляются, всё решает «бессознательное», скрытое от нас за завесой сновидений, свободных ассоциаций, оговорок и бреда. В этом истинное и неоспоримое достижение Фрейда, его «психоаналитическая революция» — ан-тикартезианский переворот. Так вот, Хейден Уайт сделал ровно всё то же самое, только не в области «философии психологии», а в области «философии истории»: он играючи заставил нас осознать одну очень простую вещь — проблема не в рассказах и не в рассказчиках, не в интерпретациях и не в недостатке каких-то исторических «улик», проблема в том, что никакой реальной «Истории» не может быть в принципе, любое наше столкновение с историей — это столкновение не с фактом, не с реальностью (как угодно интерпретированной и пусть даже извращённой), а с Текстом (с одним большим бесконечным Рассказом). До «Метаистории» всё, что историки думали о своём предмете, исходило из парадигмы: есть две стороны отношений — реальность и более-менее корректное её описание, интерпретация, понимание и т. д. После Уайта история перестала быть отношением некой «реальности прошлого», с одной стороны, и её интерпретации — с другой. Она стала отношением Текста и читателя. То есть вообще другая история…
Впрочем, сточки зрения психофизиолога, которую мы рассмотрели в нашем «Первом акте», Уайт — единственный по-настоящему здоровый субъект во всей этой разношёрстной исторической компании.
В чём тут проблема? Проблема в том, что каждый историк, который пишет Историю — будь это Ключевский с Дройзеном, Бурк-хардт с Гегелем или Кроче с Марксом, — предполагает фактическое существование некоей исторической данности, которую он — историк, — как ему кажется, изучает и описывает. Не документы, не факты, а именно «историческую реальность», допустить существование которой, понимая, что вся она — возможная история — находится просто у нас в головах в качестве коллективной фантазии и не более того, невозможно в принципе. Мы с личными-то «историями» разобраться не можем — и они-то у нас конфабулируются, что уж говорить об «исторической реальности» многовековой данности?.. Но допускают и изучают! Видя буквально внутренним взором горящий Рим и