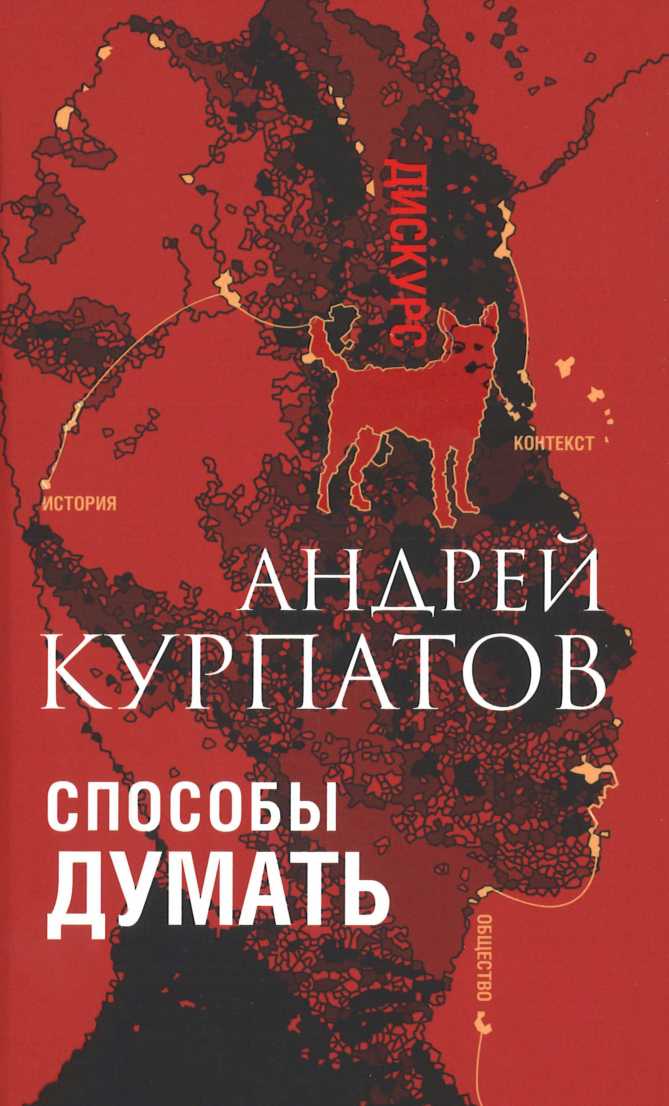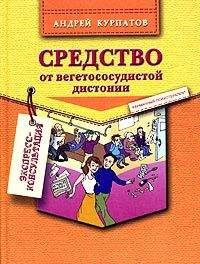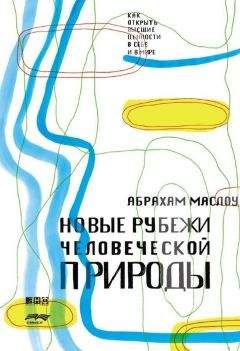памяти не хватает. Ещё чуть-чуть, и система Истории не будет подлежать восстановлению в принципе.
Что ж, настал момент, когда мне надлежит взяться за ружье, заботливо водружённое мною на стену в самом начале этой пьесы…
Не имея более возможности апеллировать к Истине Истории — или потому, что разрушена господствовавшая прежде иллюзия её якобы действительного существования, или потому, что мы наконец поняли, что это невозможно по самой сути природы Текста (Истории), имплицитно стремящегося скрыть Истину, а не сказывать её, — мы обречены на создание Правды Истории.
«Правда есть единственно возможная версия Истины, адекватная Реальному», — говорили мы в прологе. Следующее предложение я тоже позволю себе процитировать оттуда же, ничего не меняя, кроме «имён» фигурантов: «Именно структурирование этой Правды — изнутри и посредством исходного Текста (Истории, понятой как Текст) — и есть подлинная задача интеллектуала (практикующего философа), именно её и следует выдавать за Истину Истории».
Слово «выдавать», использованное в этом определении, может кого-то ранить, покоробить, вызывать массу других, весьма разнообразных и не самых, наверное, приятных чувств, но Истина несказуема, а Текст необходимо проговаривать, иначе тепловая смерть и драматическое явление его Истины: «Налево пойдёшь — коня потеряешь. Направо пойдёшь — жизнь потеряешь. Прямо пойдёшь — жив будешь, да себя позабудешь». Это метафизическая апория, она не решается логически, она может и должна быть решена только так — рассудочно и прагматически. И это вовсе не компромисс, и это честно. А создавать Правду, как я уже говорил, — это не значит лгать, это значит говорить то, что только и может быть воспринято, потому что оно адекватно Реальному, и это то, что нельзя не говорить, если мы хотим помочь слушающему нас жить (быть функциональным в Реальности). Если же кого-то всё это по каким-то причинам не устраивает и, зная всё это, он готов допустить сокрушение Текста (Истории), обрекая мир на явление Истины Истории о нас в самом драматическом и брутальном Её обличье, то ему действительно, здесь не буду спорить с Витгенштейном, «следует молчать».
На дворе 1997 год, я — почти уже выпускник Военно-медицинской академии, лежу в неврологической реанимации, в отдельном отсеке, потому что иммунитет мне убили (в лечебных целях) — у меня «поли-радикулоневрит Гиена — Баре по типу Ландри», атипическое течение с поражением спинного мозга. Моим родителям сказали, что я, скорее всего, умру. А я и сам знаю, всё-таки учился шесть лет, да и родственная моей специальность — тут неврологи, я психиатр. Впрочем, сама эта мысль не слишком меня занимает. Маму жалко, ей совсем всё это не за что. Один из дежурных врачей в порыве откровенности произносит над моей койкой замечательную фразу: «У тебя красивая болезнь — редко когда умираешь по неврологии и в полной ясности сознания!» Я с ним совершенно согласен. Ясность сознания дорого стоит. Вон, в соседнем отсеке реанимации тела инсультников, которые более никогда не выйдут из комы, а «колдовство» врачей над этими живыми трупами — только имитация помощи. Да, вроде бы и живы, а на самом деле — нет, кончились.
В один из дней мест в общей палате реанимации не хватает, и ко мне подселяют временного «квартиранта». Он нормально ходит, говорит, на всё реагирует. Молодой ещё, не больше сорока лет. Прошлым вечером он вышел погулять со своей собакой Лаймой, вышел из дома и не вернулся. Искали всю ночь, только благодаря собаке и нашли — далеко ушёл; госпитализировали. Корсаковский синдром — полная дезориентация во времени, пространстве и собственной личности — причины пока непонятны: то ли травма — ударили его по голове, и вот тебе результат, то ли микроскопический инсульт где-то в области гиппокампа с тем же самым внешним клиническим эффектом. В качестве исключения к нему пускают перепуганную жену. Она что-то невнятно бормочет, выглядит куда более нездоровой, чем её супруг в реанимации, поит его какой-то простоквашей, что-то спрашивает, он вяло отвечает. Её просят не задерживаться, она уходит.
— Эй, — тихо зовет меня.
— Что?
— А кто это была? — удивленно спрашивает, косясь на закрывшуюся дверь.
— Твоя жена.
— А-а…
Не узнал.
Ночью, как нельзя более «кстати», врач покинул пост, сестры тоже нет, а у моего товарища разыгрался приступ нервно-психического возбуждения. Сначала он, как заправский морской волк, что-то командует мне со своей койки. По обрывкам фраз я понимаю, что мы в море, на паруснике, шторм, попали в кораблекрушение. А у меня паралич, мне при всём желании с этого «корабля» не сбежать, не спрыгнуть, и медперсонала нет, как назло, поэтому я подыгрываю: рапортую — мол, всё хорошо, капитан, грот-мачта восстановлена, ветер слабеет! Товарищ мой, кажется, успокаивается, а я погружаюсь в тяжёлую дрему — всё тело болит, словно набитая стеклом резиновая грелка. Следующий кадр: он стоит и мочится в аппарат искусственной вентиляции лёгких.
— Что за неудобные писсуары в этом магазине…
— Это не магазин, больница. У тебя утка под кроватью, — говорю я.
Он смеётся:
— Нет, утки под кроватями не летают, — и направляется ко мне.
— Тебе туда! — показываю в сторону его койки. — Иди давай.
— Сейчас, руки помою… — и хватается за мою капельницу.
А это подключичка, уже четвёртая по счету, больше мне не сделают — и так на ладан дышит. Время на раздумье — доля секунды.
— А где собака?! — спрашиваю его.
Он удивлённо смотрит на меня пустыми глазами, испуганно озирается по сторонам, оборачивается… Вспомнил. Потерял.
— Лайма, Лайма! — кричит он и бросается в двери.
— Куда ты, блядь, пошёл! — истошно вопит сестра, тут же поймавшая его в коридоре. — Игорь! Игорь Алексеевич, скорее сюда! Возбуждение у Корсакова!
На эту ночь его привязали. На следующий день — отправили в психиатрию. У нас такие частенько бывали, только вот жить с ними мне ещё не приходилось. Но обошлось…
Через месяц меня перевели в обычную палату. Милый дедулька с атрофией коры головного мозга — маленький, суетливый и ипохондричный. Приятный молодой парень из питерского пригорода с болезнью Бехтерева — не жилец в среднесрочной перспективе; натянутый, как струна, от этого системного окостенения и умрёт. Совершенно несчастный пьяница на соседней койке с периферическим параличом после отравления какой-то бормотухой — не позавидуешь, честное слово. Много переменных людей — на несколько дней улеглись, обследовались, и бывай здоров.
Через пару месяцев к нам подселяют старшего прапорщика — грузный, ригидный, дисфоричный эпилептик, демобилизованный по болезни с какой-то прекрасной интендантской должности. Страдает от этого сильно, экзистенциальный почти кризис — тушёнка мимо пошла. Ночью храпит как три пожарные сирены, но говорить с