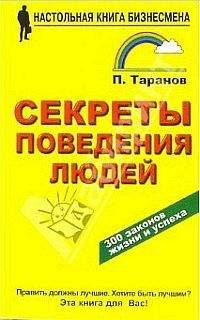Тирания и иноземное иго наиболее рельефно воплощены в лице Геслера, наместника австрийского императора. Правление Геслера и его приближенных характеризуется в пьесе произволом, жестокостью, самодурством, оскорблением национальных чувств и человеческого достоинства.
Чтобы растоптать самоуважение народа, Геслер придумал поставить на лужайке шест, на который водрузить шляпу, и приказал всем, кто проходит мимо (а воткнут в землю шест был в самом людном месте) низко кланяться шляпе. За нарушение указания наместника полагалось немедленное наказание, для чего вблизи шеста стояли два стражника.
Сумасбродное проявление не приемлется даже стражей. Вот их разговор между собой.
Приятель, что-то мне сдается, знаешь,
Позорный столб для нас же — шест со шляпой.
Ведь это срам для доброго вояки
Быть на посту перед пустою шляпой.
За это все нас вправе презирать.
Отвешивать поклоны перед шляпой
Поверь! — дурацкий это, брат, приказ!
Но вот в районе "пустой шляпы" появляется Вильгельм Телль.
У него в руках самострел. Он вместе со своим вторым сыном. Естественно, что поклона шляпе он не отвешивает.
Многие комментаторы драмы, ссылаясь на текст Шиллера, считают, что Телль просто не заметил "позорного сооружения". Я так не думаю. Взгляните на Телля. Разве он похож на невнимательного или робкого? И разве не он говорит о себе следующее?
Покой мне чужд.
Я не рожден быть пастухом. Я должен
За целью ускользающей гнаться;
И лишь тогда жизнь для меня отрада,
Когда в борьбе проходит каждый день.
Не уважив шляпу, Телль бросил вызов оккупантам.
Но будучи схваченным врагами, он еще надеется сойти за простачка и потому, находясь в резиденции Геслера, говорит ему:
Простите сударь! Я не из презренья
По безрассудству ваш приказ нарушил,
Будь я другой, меня б не звали Телль,
Ведь Телль от «toll», что значит сумасбродство.
Помилуйте, я впредь не провинюсь.
Телль, отнюдь, не кается: просто Шиллеру хочется показать, что его «проступок» в глазах самого швейцарского народа естественен — захватчики всегда будут восприниматься без обиняков захватчиками, и даже простейшие действия людей — такие как «неуважительное» поведение Телля — есть психологическая реакция протеста.
Наказание, предложенное Геслером Теллю во искупление вины перед австрийской короной, страшное: он должен выстрелить из самострела в яблоко, которое стража Геслера положит на голову сынишки Телля.
Телль — меткий стрелок, и все обойдется. Он прощен.
Но Геслер спрашивает его, а зачем он перед стрельбой достал не одну стрелу (ведь по условиям наказания ему полагается только один выстрел), а две. Мужественный и честный Телль не кривит душой перед сильной стороной.
Его протест проявляется и в той правде, которой он нокаутирует Геслера. Вторая стрела, говорит Телль, должна была поразить Геслера, если бы отец попал не в яблоко, а в сына.
И тогда наместник срывается. Не выдержав поединка; с представителем попранной его сапогом страны, он приказывает — забыв про свое обещание простить Телля схватить смельчака и «упрятать» его в тюрьму да, понадежнее, как самого опасного бунтовщика.
И вот теперь-то Телль "распрямляет плечи" народного героя.
Он совершает свой исторический подвиг — посылает стрелу в сердце тирана. Решение Телль принимает непосредственно под влиянием событий. С небывалой отвагой покинув корабль Геслера, который нес его к тюрьме, к гибели, он осознает необходимость возмездия, т. е. уничтожения наместника. Ни с кем не советуется этот мужественный человек, ни минуты не колеблется. Поджидая Геслера, который должен проехать у подножия горы, где находится Телль, он — любопытная деталь: спокойно и приветливо разговаривая с горцами — пронзает из арбалета злое сердце жестокого человека.
Всходы унижения всегда вырастают, они не гибнут и способны стрелять в своих сеятелей.
219. Закон "расставания с правдой"
Двигаясь по дороге своей жизни, люди подвержены закону "смены приобретений" и закону "оставления использованного". Они вырастают из прежних своих одежд и расстаются с привычками и иллюзиями возраста. Каждое новое дело несет им приобретение нового опыта, и их очередные взгляды заступают на место предшествовавших, В этом смысле мы переживаем в самих себе и назначение на должность, и возведение на престол, и свержение. Мы переживаем и триумф наших войск, и унижение поражения. Все это в нас, при нас, всегда с нами. Не исключение из этого ряда и "правда".
Еслм «правду» определить как желание быть услышанным и безоговорочно принятым в своих утверждениях, заверениях, призывах, то любая правда — это этап в нашей жизни, а вовсе не некая метафизическая или мифическая Она, которой люди должны служить и отдавать свои сердца, подобно любви к Богу. Об одном кардинале известно следующее: после избрания папы он подошел к святому отцу и сказал: "Итак, вы избраны в папы; вы в последний раз услышите правду; всеобщие знаки уважения обольстят вас, и вы станете считать себя великим человеком. Помните, что до возведения в папы вы были лишь невеждой и упрямцем. Прощайте, я стану вам поклоняться".
Он, этот кардинал, умел смотреть в корень и этим своим высказыванием по мудрости превосходит царя Соломона.
220. Закон "расширения опыта".
"Поездки учат".
(Японская поговорка)
Можно прочитать целую книгу и не понять, о чем она… Можно битый час слушать лекцию и не уловить содержания речи. Можно долго чем-то заниматься и не понимать ни сути дела, ни его смысла.
Но достаточно бывает строчки, предложения, короткой встречи, мимолетного эпизода, и все прожитое, выслушанное, сделанное вдруг выстраивается в понятный, осмысленный ряд.
Что же это за чудесные формователи нашего опыта?
Неужели какая-то там «мелочь» может так ясно обрисовать целое?
Такой удивительностью обладает опыт, только не свой, а чужой. Оказывается, чужие достижения, взгляды, умения, если их много и они непрерывны в своем направленном на нас потоке, если знакомство с ними широкомасштабно и часто, способны так пересечься с нашим опытом, делом, мыслью, что, пересекая, не перечеркивают наше, а, напротив, поднимают его, как это делает встречный поток воздуха, поравнявшись с крыльями самолета.
Разным историям на сей счет числа нет. Но мне запомнилась та, что рассказана была писателем Александром Михайловичем Алешкиным. Буквально за год до развала Союза пришлось ему сопровождать делегацию японцев.
На одном из самых крупных в городе заводов, а дело было во Владикавказе, они шли мимо Доски почета, когда руководитель делегации, замедлив шаг, что-то проговорил остальным, и они замерли перед взятыми в рамки портретами и низко склонили головы.
"Я подумал сперва: вот кто почитает мастерство! говорит Алешкин. — Растрогался и заодно тоже как бы слегка поклонился: вот, мол, у кого и тут нам надо учиться — у японцев!.. Ну и как бы в знак признательности, что ли в знак благодарности по отношению к гостям, уточняю: а почему это незнакомых вам людей вы решили почтить?.. А руководитель и говорит: "Ведь они умерли?.. А мы свято чтим память об ушедших в иной мир!" — "Да нет же! — я ему объясняю. — Они, слава Богу, живы… Просто эти люди хорошо работают, поэтому их портреты тут и висят!"
Тогда он с японской своей дотошностью пересчитал портреты — их двадцать четыре набралось, а потом спрашивает: "А сколько всего рабочих на этом заводе?" Отвечаю ему: семь тысяч, мол. Он спрашивает:
"И что — остальные шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть рабочих трудятся плохо?"
Вот как мы с вами, читатель, выходит, странно жили, если со стороны посмотреть.
Жизнь соприкоснула меня в молодые годы с Павлом Васильевичем Копниным, доктором философских наук, известным советским гносеологом, специалистом по теории науки. Это от него я впервые услышал быль о посещении философского факультета Московского государственного университете им, М. В. Ломоносова делегацией индийских ученых. Почти всю неделю длился их визит.
Все прошло удачно: и Москва понравилась, и пытливые студенты. Одного только не смогли осилить гости. О чем откровенно и сказали. "У вас, — говорили они, — все хорошо поставлено и обеспечено. Много нужных кафедр — этики, логики, истории философии и т. д. Но это ведь философский факультет. А философия есть любовь к мудрости. Любовь! Так отчего же у вас нет как бы главной кафедры, кафедры любви?
Ничего не смогли ответить им наши маститые, обвешанные званиями преподаватели. Растерялись. Сникли.