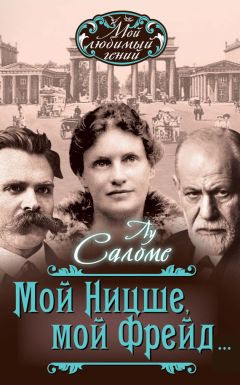«Нет, оно исчерпало себя. Пришло время».
«Это будет эгоизмом с моей стороны, — возразил Брейер. — Я так много взял и так мало дал взамен. Но я знаю и то, что у меня было так мало возможностей помочь вам — вы совсем не хотели мне помогать, у вас даже не было приступов мигрени».
«Лучший подарок, который вы можете мне сделать, — это помочь мне разобраться в вашем выздоровлении».
«Я думаю, — ответил Брейер, — что самым мощным фактором стало то, что я понял, кто мой истинный враг. Когда я осознал, что должен бороться с истинными врагами — с временем, со старением, со смертью, — я пришел к пониманию того, что Матильда не противник, не спаситель, но попутчик, составляющий мне компанию в утомительном путешествии по реке жизни. Каким-то образом эта простая мысль выпустила из заключения всю мою любовь к ней. Сегодня, Фридрих, мне нравится идея о вечном повторении моей жизни. Наконец, я могу сказать: „Да, я выбрал жизнь для себя. И я сделал хороший выбор“».
«Да, да. Я понимаю, что вы изменились, — сказал Ницше, подгоняя Брейера. — Но я хочу понять механизм этого изменения».
«Я могу сказать только то, что в течение последних двух лет я был сильно напуган собственным старением, или, как вы сказали, „аппетитом времени“. Я сопротивлялся — но вслепую. Я нападал не на врага, а на свою жену, и в конце концов, в отчаянии, обрел спасение в руках того, кто мог спасти меня. — Брейер замолчал, почесывая голову. — Я не знаю, что добавить, разве что благодаря вам я нашел ключ к разгадке жизни: во-первых, желать необходимое, во-вторых, любить желаемое».
Ницше, пораженный словами Брейера, едва сдерживал волнение.
«Amorfati — люби свою судьбу. Йозеф, наше родство душ поистине сверхъестественно! Я планировал посвятить следующий — и последний в этом курсе занятий — урок именно Amorfati. Я собирался научить вас бороться с отчаянием, превращая „так это было“ в „так сделал я“. Но вы опередили меня. Вы стали сильным, может, даже созрели, — но… — Ницше запнулся, охваченный внезапным волнением. — Эта Берта, которая ворвалась в ваш разум и пленила его, которая не давала вам покоя — вы не рассказали мне, как изгнали ее».
«Это не имеет значения, Фридрих. Намного важнее то, что я перестал оплакивать прошлое и…»
«Вы говорили, что хотите тоже дать мне что-то. Помните? — воскликнул Ницше, и отчаяние в его голосе встревожило Брейера. — Так дайте мне то, о чем я прошу. Скажите мне, как вы заставили ее уйти! Я хочу знать все подробности!»
«Каких-то две недели назад, — вспомнил Брейер, — это я умолял Ницше сказать мне, что конкретно мне нужно делать, а Ницше утверждал, что единого пути не существует и каждый должен искать свою собственную истину. Насколько же сильно должен страдать Ницше, чтобы отрекаться теперь от своих собственных слов и надеяться вычленить из моего выздоровления путь к своему собственному. Нельзя потакать ему в этом», — решил Брейер.
«Я ничего так не хочу, как что-то дать вам, Фридрих, — сказал он. — Но это должен быть реальный, вещественный дар. В вашем голосе я слышу настойчивость, но вы скрываете свои истинные желания. Доверьтесь мне — один-единственный раз! Скажите мне, что именно вы хотите получить. Если я могу дать вам то, что вам нужно, это будет вашим».
Ницше вскочил со стула и начал расхаживать взад-вперед по комнате. Через несколько минут он подошел к окну и остался стоять там, повернувшись спиной к Брейеру.
«Серьезному человеку нужны друзья, — заговорил он, обращаясь скорее к себе самому, нежели к своему собеседнику. — Когда все рушится, у него остаются его боги. Но у меня нет ни друзей, ни богов. Во мне, как и в вас, живут страсти, и ничто не может сравниться со страстным желанием совершенной дружбы, дружбы inter pares, среди равных. Что за опьяняющие слова — inter pares, слова, в которых отрада и надежда для такого, как я, который всегда был одинок, который всегда искал, но никогда не встречал того, кто в точности ему подходит.
Иногда я изливал душу в письмах сестре, друзьям, но когда я сталкиваюсь с людьми лицом к лицу, я пристыжено отворачиваюсь».
«Как вы отвернулись от меня сейчас?» — перебил его Брейер.
«Да», — отозвался Ницше и замолчал.
«У вас есть, что мне рассказать сейчас, да, Фридрих?»
Ницше, не отрываясь от окна, покачал головой:
«В тех редких случаях, когда меня охватывало одиночество, и я позволял себе публичные излияния о своих страданиях, часом позже я содрогался от отвращения к себе, я становился чужим самому себе, словно я лишался собственного общества.
Я также не позволял никому откровенничать со мной — я не испытывал ни малейшего желания навлекать на себя долговое обязательство взаимных откровений. Я сторонился всего этого, до того самого дня, разумеется, — он обернулся к Брейеру, — когда я пожал вашу руку и согласился на заключение нашего странного договора. Вы стали первым человеком, с которым я дошел до конца. Но даже от вас я первое время ожидал предательства».
«А потом?»
«Вначале, — ответил Ницше, — вы смущали меня: я никогда не слышал столь искренних рассказов. Потом я стал нетерпеливым, потом — критичным и осуждающим. Затем все снова изменилось: я начал восхищаться вашей смелостью и честностью. Потом появилось трепетное отношение к вашему доверию мне. А теперь, сегодня, я с глубокой грустью думаю о расставании с вами. Я видел вас во сне прошлой ночью — это был грустный сон».
«Что вам приснилось, Фридрих?»
Ницше вернулся на стул и заглянул в лицо Брейера:
«Мне снилось, что я просыпаюсь здесь, в больнице. Кругом темнота, мне холодно. Никого нет. Я хочу найти вас. Я зажигаю лампу и заглядываю в пустые комнаты — вас нигде нет. Я спускаюсь по лестнице в общую комнату и вижу там странную картину: костер — не огонь в камине, а именно костер, аккуратно сложенный посреди комнаты, вокруг которого сидят, словно греются, восемь высоких камней. Меня вдруг охватила дикая грусть, и я расплакался. Тогда я действительно проснулся».
«Странный сон, — сказал Брейер. — Что вы можете про него сказать?»
«Я помню только ощущение глубочайшей грусти, сильную тоску. Раньше я никогда не плакал во сне. Поможете?»
Брейер повторил про себя простое слово, сказанное Ницше: «Поможете?». Вот чего он ждал. Мог ли он три недели назад представить себе, что услышит такие слова от Ницше? Нельзя упускать такую возможность.
«Восемь камней греются у костра, — отозвался он. — Любопытный образ. Знаете, что приходит мне на ум? Вы, конечно, помните, как в Gasthaus герра Шлегеля у вас начался приступ мигрени?»
Ницше кивнул: «Большую часть помню. Но какое-то время я был без сознания, так?»
«Я не все рассказал вам, — сказал Брейер. — Когда вы были в коматозном состоянии, у вас вырвалось несколько грустных фраз. Одна из них звучала так: „Нет гнезда, нет гнезда!“»
Ницше смотрел на него непонимающими глазами:
«„Нет гнезда“? Что я хотел этим сказать?»
«Я думаю, что под этим вы подразумевали, что для вас нет места ни среди друзей, ни в обществе. Думаю, Фридрих, вас манит домашний очаг, но вас пугает это ваше желание. — Голос Брейера стал тише: — В это время года вы, наверное, одиноки. Большинство пациентов уже покинули стены больницы, чтобы встретить рождественские праздники в кругу семьи. Может, комнаты в вашем сне опустели именно поэтому. Вы искали меня, а наткнулись на костер, у которого греются восемь камней. Кажется, я знаю, что это может значить: мой семейный очаг окружают семь человек: пятеро моих детей, моя жена и я. Может, восьмой камень — это вы? Может, в этом сне — желание дружбы со мной и тепла моего очага. Если это так, рад буду принять вас. — Брейер подался вперед и сжал руку Ницше: — Поедемте ко мне домой, Фридрих. Пусть мое отчаяние отступило, но нам не нужно расставаться. Будьте моим гостем на праздники, а еще лучше — оставайтесь у меня на зиму. Это доставит мне удовольствие».
Ницше на мгновение накрыл руку Брейера своей — лишь на мгновение. Затем он встал и вернулся к окну. Дул северо-восточный ветер, дождь яростно барабанил по стеклу. Он обернулся:
«Спасибо, друг мой, за ваше приглашение. Но я не могу принять его».
«Но почему? Я уверен, это пойдет вам на пользу, да и мне тоже. У меня в доме пустует комната почти такого же размера, как эта. И библиотека, где вы сможете писать».
Ницше тихо, но твердо покачал головой: «Несколько минут назад, когда вы сказали, что дошли до предела своих небезграничных возможностей, вы имели в виду столкновение с одиночеством. Я тоже дошел до своего предела — предела близости. Здесь, с вами, даже сейчас, когда мы разговариваем с глазу на глаз, по душам, я стою на пределе».
«Эти границы можно и расширить, Фридрих! Давайте попробуем!»
Ницше расхаживал взад-вперед: «Когда я говорю: „Я больше не могу выносить одиночество“, моя самооценка падает в неизведанные глубины, ведь я отказался от самого высокого во мне. Избранный мною путь требует оказывать сопротивление опасностям, которые могут увести меня в сторону».