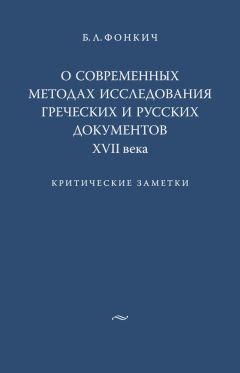И тут дело совершенно ясно, уже начиная с Гомера. Когда Зевс дарует Фетиде исполнение ее просьбы, когда Афина воодушевляет Диомеда, когда Аполлон охраняет Гектора — что это самовольно ли движущиеся небесные боги, или их сделанные человеческой рукой кумиры? И спрашивать нечего — тем более, что кумиров ахейская эпоха, представляемая Гомером, даже и не знает. Но быть может в следующую эпоху, построившую богам их храмы и поставившую в них их кумиры, произошел такой сдвиг религиозного чувства, и кумиры заняли в сознании верующих место тех, которых они должны были представлять? Посмотрим. Многотысячная толпа афинян следит в театре за «Орестеей» Эсхила; она видит, как преследуемый Эриниями герой сидит на Акрополе, обнимая своими руками кумир Паллады; вслед за тем к нему спускается сама Паллада, становясь таким образом рядом со своим кумиром. Достаточно ли ясно этим сказано, что кумир — лишь изображение божества, а не само божество?
Но все же ему поклонялись. Да, конечно; но совершенно в таком же смысле, в каком верующие древнехристианских исповеданий «поклоняются» (термин не важен) своим изображениям Христа, Богородицы и святых; и афинянин, воскурявший фимиам перед кумиром своей Паллады, делал это с совершенно таким же чувством, с каким и поныне католик или православный в субботний вечер зажигает лампаду перед образом Пресвятой Девы. И как у нас верующие выделяют «чудотворные» иконы из числа других, приписывая им большую святость, так же, буквально так же, и про кумир Аполлона в Магнесии на Меандре полагали, что он имеет "силу для каждого дела". Аналогия здесь полная — что и неудивительно, так как мы имеем дело именно с античным корнем христианства. Правда, с другой стороны, что протестанты именно поэтому и не отказывают себе в удовольствии называть нас «идолопоклонниками»; но мы ведь знаем, что они при этом только бранятся, а не говорят дело.
Упрек в идолопоклонстве утвердился за древнегреческой религией со слов христианских апологетов; христианская апологетика в свою очередь пошла по стопам иудейской, которая имела свою иконоборческую закваску еще в откровениях ветхозаветных пророков, но в своем споре с эллинизмом повторяла только соображения эллинской же философской апологетики эпикурейцев, новоакадемиков и киников. Наиболее вескими были тут два довода.
Первый, характерный для философской апологетики, касается вообще антропоморфизма, лежащего в основе не только поклонения кумирам, но и их простой наличности. Он восходит еще к Ксенофану, рапсоду-философу VI в. до Р.Х.: "Арапы, — говорил он, — представляют себе своих богов черными; и если бы лошади обладали способностью изображать своих богов — они несомненно изобразили бы их в лошадином виде". Ну, и что же? Не только мы, люди XX в., можем ответить на это соображение бессмертным словом Гете "все преходящее есть только притча" и указанием на то, что сама религия, как преломление божества в сознании преходящего человека, есть нечто преходящее, есть только притча. Спросим Эсхила, что бы он ответил Ксенофану? "Зевс, кто бы ты ни был — если тебе приятно, чтобы мы тебя называли этим именем — мы этим именем и называем тебя", — сказал элевсинский пророк, справедливо настаивая на эллинском сознании относительности наименований богов, столь отличном от семитской исключительности. И, разумеется, в этом же духе он ответил бы и Ксенофану. "Зевс, каков бы ты ни был — если тебе приятно, чтобы мы в этом образе тебе поклонялись, мы в этом образе и поклоняемся тебе!" — в образе, скажем, Антенора, а позднее — Фидия.
Но откуда же эллины знали, что это ему приятно? Об этом речь впереди.
Впрочем, очень возможно, что Ксенофан и не нуждался в этом поучении — мы ведь имеем дело с отрывком. Очень возможно, что эллинский рапсод восставал не против поклонения кумирам, а против отождествления их преходящего образа с вечным, независимым от человеческих чувств образом божества. Но, повторяю, все это соображение характерно только для эллинско-философской апологетики; иудеи, а за ними христиане, признававшие, что Бог создал человека "по своему образу и подобию", им, понятно, пользоваться не могли.
Популярнее другое. Эллин поклоняется кумиру, т. е. изделию каменщика или литейщика. Он приписывает ему, человеку, силу делать бога. Что за заблуждение! Вот я возьму и отобью у вашего бога руку; посмотрим, будет ли он в состоянии защитить себя и наказать меня. А вы, ослепленные, чем поклоняться изделью человека, поклоняйтесь тому, кто создал его самого, этого вашего человека-богодела.
Это соображение с виду очень убедительно — и оно доказало на деле свою действительность в темные времена и против темных людей; но мы, афиняне IV–III вв., признаем его тем, чем оно и есть — сплошной передержкой, иногда невольной, но чаще злостной. Да, мы поклоняемся Палладе в ее изваянном Фидием образе, но мы никогда не приписывали ему силы защищать себя против посягательства варвара И если ты искалечишь его — это будет кощунством, грехом, таким же, как и клятвопреступление, как непочтительность по отношению к родителям, как оскорбление гостя; и богиня, ни беспокойся, накажет тебя за него — если не тотчас, то когда-нибудь, если не на этом свете, то на том, если не в лице тебя, то в лице твоих потомков до четвертого колена и далее. Но независимо от этого, это будет оскорблением нашего религиозного чувства, за которое мы накажем тебя от себя, и притом немедленно. Что же касается «богодела», то это простое невежество с твоей стороны. Никогда изваянный хотя бы самим Фидием кумир не будет объектом поклонения сам по себе: пока он в мастерской художника, и он, и всякий другой может его резать, отбивать какие угодно части и даже вовсе его разбивать, и это не будет кощунством. Объектом поклонения он становится лишь с момента его посвящения (hidrysis), т. е. религиозного акта сакраментального характера, очень торжественного, о котором ты можешь прочесть в «Экзегетике» Автоклида. И самому посвящению должно предшествовать обращение к богу с запросом, угоден ли ему посвящаемый кумир, и согласен ли он влить в него часть своей божественной силы, чтобы он был отныне видимым посредником между ним, незримым, и его поклонниками. В обыкновенных случаях для этого достаточно обратиться к местному «экзегету» пифийского Аполлона или элевсинских богинь; в более торжественных мы снаряжаем феорию в Дельфы. Но когда Фидий изваял своего Зевса олимпийского — он дерзнул обратиться к самому Громовержцу с вопросом, угоден ли ему его кумир, и тот с небесной выси послал свою огненную вестницу, молнию, к его ногам. Поезжай в Олимпию; там тебе покажут священный «энелисий» — место, куда грянул Зевсов перун на радость нам и на вечную хвалу его пророку.
§ 16
Продолжаем, однако. До сих пор у нас была речь только об одном способе художественного откровения — о ваянии, и притом в одной только области — в области созидания кумиров как предметов поклонения. Живопись, к слову сказать, играет в этом отношении второстепенную роль — писаные образы богов как предметы поклонения в государственном культе не встречаются вовсе и только в частном, да и там лишь изредка. Мы, однако, еще вернемся к ней, а также и к другим отраслям ваяния; здесь же поговорим об архитектуре.
В те далекие времена "ахейской эпохи", когда не знали кумиров богов, обходились также и без храмов; богослужение от имени государства совершалось под открытым небом, для него требовался алтарь, но не храм. Храм развился лишь со временем в связи с необходимостью дать дом — не самому незримому богу, конечно, а его видимому образу, кумиру. И, по-видимому, такой храм вырос и развился из священной рощи: сначала сплетали беседку из ее деревьев, образуя навес для кумира (этот обычай, упоминаемый еще Гомером, в некоторых культах уцелел до позднейших времен); затем сочли более надежным строить между деревьями небольшую «хорому», а затем хорому с окружающими деревьями претворили в виде полукаменного или каменного здания — получилась «целла» с колоннадой, всем известная, простая, но величавая и пленительная форма "греческого храма". Богослужение по-прежнему совершалось у алтаря под открытым небом, перед храмами, а не в самих храмах, которые были только обителью божества, а не местом собрания верующих, поэтому не было надобности строить их особенно вместительными, и даже самые величественные из них были довольно скромных размеров в сравнении с каменными гигантами восточных религий и христианской.
Где же строили храмы? С тех пор, как в греческих государствах пала царская власть, их «акрополи» из царских твердынь превратились в естественные обители богов; там и строили преимущественно их храмы. Так и в Афинах, на Акрополе, храм Паллады занял место "дома Эрехфея" ахейских времен, хотя и унаследовал его имя — и к нему присоединились другие храмы той же богини, кончая Парфеноном. Затем очень желательны были храмы на городской площади, где вершились государственные дела. Средоточия общеэллинской религиозности, священные рощи в Дельфах, в Олимпии, изобиловали храмами. Охотно их строили тоже и на больших дорогах, вне городских стен — как fuori Ie mura в христианском Риме, чтобы путник издали испытывал отрадное чувство приближения к «благозаконному» городу. И еще более желательным местом был мыс, издали видный пловцам — и нынешний паломник, огибающий аттический Суний с его белыми колоннами храма Посейдона, может еще испытать то теплое чувство близкой благодати, которое этот храм некогда внушал гражданам и гостям Афин.