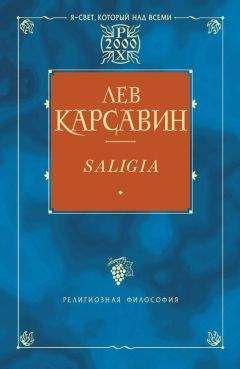Любовь, Любовь, слышу снова речи твои! Снова из бездны души подъемлется благоухание твое! Снова вздымаются волны твои, немолчную песнь начиная. Громче и громче звучит и несется она… А метель затихла. Близится конец безмолвно вещающей Ночи. Не светлеют ли окна?.. Откуда несется благовест: из соседнего храма или из радостью полного сердца моего?.. Ты ли это, Любовь, ты ли снова со мною и снова несешь мне образ любимой, снопами лучей исторгаясь из милых глаз?.. Колеблясь, меркнет жалкий ночник – все ярче сияют любимые очи, излучая Любовь. Тихо уходит безмолвная ночь. В звуках колокола светлеет мир.
1. Любовь – вселенская сила, «L’Amor che move il cielo e l’altre stelle»3.
Отчетливо встает предо мною физиономия Федора Павловича Карамазова: маленькие наглые глазки, жирные мешочки под ними, брызжущие слюной пухлые губы с остатками гнилых зубов за ними, тонкий нос с горбом, нос хищной птицы, и похожий на кошелек кадык, – «настоящая физиономия римского патриция времен упадка». Почти слышится его «дрожащий полушепот», льстивый и лживый…
«Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило… По моему правилу во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь – только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не существовало: уже одно то, что она женщина, уж это одно – половина всего… Даже вьельфильки… и в тех иногда отыщешь такое, что только диву даешься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили!»
Есть в этих словах что-то знакомое, влекущее не только похотливость, зовущее погрузиться в себя… Так хочется бередить больную рану, и с болью сплетается какое-то наслаждение… Чем-то глубоко проницающим в природу Любви и в меня самого веет от клейких слов и наглого хихиканья. Еще вчера так ясно было мне, что Любовь узревает красоту в безобразном; сегодня Федор Павлович, правда – по-своему и мелко-похотливо, но, может быть, ярче повторяет почти те же слова. Да разве Федор Павлович любит, разве он способен любить?
Он видит то, чего не видят другие, улавливает неповторимо-индивидуальное. Ценитель «грубой женской красоты» до безумия увлекается матерью Алеши, ее невинностью. Пускай ему хотелось осквернить ее чистоту. – Он ее понимал и чувствовал, острее и глубже, чем иной «благородный» и непохотливый человек. Сама жажда осквернить понятна лишь на почве острого ощущения того, что оскверняется. И восприятие чистоты (т. е. сама чистота) должно было находиться в сознании Федора Павловича, в известном отношении быть им самим. Он познавал чистоту Алешиной матери, т. е. стремился к ней и любил ее: иначе бы и не познавал. Ощущая в себе сияние чистоты, он ощущал несоответствие между нею и темным своим эмпирическим «я» и знал, что она выше его. И попирая ее, он знал, что попирает лучшее и святое, влекущее его к себе и любимое.
Федора Павловича не только «тешит», а до боли услаждает «рассыпчатый» смешок его «кликуши», «звонкий, не громкий, особенный». Он знает, что «так у нее всегда болезнь начинается, что завтра же она кликушей выкликать начнет и что смешок этот теперешний, маленький, никакого восторга не означает, ну да ведь хоть и обман, да восторг!» Ему, значит, понятен и желанен восторг; он хочет цельного чувства, а не только развратных вывертов, и болеет неизбежностью обмана. – Не своего восторга, скажут мне, а восторга кликуши. Федор Павлович, словно хищный зверь, ждет этих мгновений восторга, чтобы потом тем беспощаднее его растоптать и осквернить. Он думает лишь о своей утехе. – Но можно ли знать чужой восторг и не обладать им в себе, а обладая им можно ли его не любить? Знание и любовь отожествляют со знаемым и любимым.
Безобразен Федор Павлович, но чуток к прекрасному; грязен, но влечется к чистому и святому. И этот же чуткий человек находит, что Лизавету Смердящую «можно счесть за женщину, даже очень… Тут даже нечто особого рода пикантное…» Что влекло его к Лизавете, к идиотке ростом «два аршина с малым»? – Он думал, и всякий думает: не она сама, а особенность наслаждения, «пикантность». Но ведь эта «особенность» немыслима без самой Лизаветы, и сознание в себе такого влечения есть вместе с тем и познание в Лизавете чего-то непонятного и невидимого для других, самой Смердящей.
Дмитрий Федорович назвал вожделения этого рода «цветочками польдекоковскими». Но дело тут не только в цветочках. – Митя видел у «Грушеньки-шельмы» пальчик-мизинчик, в котором отозвался «один изгиб тела», и по части и в части постиг он этот «изгиб», понял больше, чем его – всю Грушеньку, и телесность и душевность ее. Это уже не «цветочки»: это целостное постижение, от низменной похоти возносящее к вершинам Любви. И в отце и в детях живет какая-то вещая, чудесно-чуткая стихия. Как Митя, необразованный и дикий Митя, тонко и полно понимает ту же Грушеньку или Екатерину Ивановну! Как безошибочен взгляд самого старика, боящегося Ивана, слепо доверяющего Григорию! И острый ум Ивана, и необыкновенное чутье Алеши, и цинически-прозорливая расчетливость Смердякова вырастают из одной и той же стихии их отца. Не опыт житейский учил их. – Опыт дает только шаблоны и схемы, сырой материал для внешней индукции, не открывающей душу чужую. Опыт ведет лишь к ошибкам. Если же в нем открывается чужая душа и пронизываются чужие мысли, так это только – в нем, а не он: это нечто совсем иное, хотя и в нем проявляющееся. Тут особого рода постижение, особое познание, которое покоится не на догадках, а на подлинном приятии в себя чужого «я», на каком-то единении с ним, без любви невозможном. Неважно, много или мало «пережил» человек; важно, чтобы открылись глаза, а они могут открыться и при первом же взгляде. И дальнейший «опыт» дает прозревшему не шаблоны и схемы, а новое знание о неведомом раньше, хотя, как дерево из корня, и растет оно из первых прозрений, ибо все едино в чудесном познании – любви.
Федор Павлович знает, что «босоножку и мовешку» (только ли их?) «надо сперва-наперво удивить… до восхищения, до пронзения, до стыда». И он становится могучим чрез раскрытие и постижение, а, значит, и чрез сопереживание чистого идеализма «босоножки». Знание становится средством низменного самоуслаждения, и сопереживание гаснет в восторге злой власти, гаснет, но не исчезает. Митя «в темноте, в санях принудил к поцелуям эту девочку, дочку чиновника, бедную, милую, кроткую, безответную. Позволила, многое позволила в темноте». Кому же в этих словах неясно подлинное постижение Митею кроткого образа и милой души безответной девушки, всей ее сдержанной еще внутренней нежности? И должно же быть все это в душе Мити для того, чтобы мог он «игрою» «забавлять» свое «сладострастие насекомого». Да, его «забавляло», как на балах «следили» за ним глаза обманутой, как они «горели огоньком – огоньком кроткого негодования». Но он переживал в себе это «кроткое негодование» (слова-то какие точные!), и тем острее, чем более оно его забавляло. Мало того, он знает (как знает, впрочем, и сам Федор Павлович), что в таких действиях и мыслях он «клоп и подлец», что мысли его – «мысли фаланги». Он осуждает себя, и все-таки себе не изменяет, даже чует в самих извращениях своих нечто самоценное.
«Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор или в свет и радость. Вот ведь где беда, ибо все на свете загадка…» Митя чувствует, что падает вниз, в бездну и грязь, «головой вниз и вверх пятами», но «даже доволен, что именно в унизительном таком положении» падает и считает « это для себя красотой». Он ощущает какую-то правоту свою и в самом падении своем, в «самом позоре» начинает гимн. —
Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит.
Ошибается ли тут Митя, изменяет ли ему острота и правдивость его любовного ведения или нет? – Он чувствует, знает, что как-то нужны и оправданы даже гнусные проявления его личности, хотя от этого не перестают они быть гнусными. – Насекомым дано в удел сладострастье: в нем закон и цель их жизни; более: чрез чего они подъемлются от низости безразличия. Но
Чтоб от низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью-землею
Он вступил в союз навек.
2. В чем же смысл и ценность гнусного, того, что в нем обнаруживает себя и само по себе не может, не должно быть отвратным, того бытия, которое лежит в его основе и должно, как бытие, быть благом? – Перед нами один аспект объединившейся со стихийною силою личности – аспект мучительства, насилия, безграничного властвования и убивания. «Вот она от меня, клопа и подлеца, вся зависит, вся кругом и с душою и с телом. Очерчена». Я, мое маленькое эмпирическое я, стремится к одинокому самоутверждению в полном обладании любимой (хотя бы на миг любимой), в полном растворении ее в себе. Я хочу, чтобы любимая совсем, вся была моею, мною самим, чтобы исчезла она во мне и внешне от нее ничего не осталось. Эта жажда господствования и убийства есть во всякой любви; без нее, без борьбы двоих не на жизнь, а на смерть любить нельзя. Любовь всегда насилие, всегда жажда смерти любимой во мне. Даже когда я хочу, чтобы любимая властвовала надо мною, т. е. когда хочу ее насилия надо мной, я хочу именно такого насилия, уже навязываю любимой мою волю. Отказываясь от всяких моих определенных желаний и грез, самозабвенно повторяя: «да будет воля твоя», я все же хочу, чтобы она (ни кто другой) была моей владычицей, умертвила меня, т. е. отожествляю мою волю с ее волей и в ней хочу своей гибели. И уже не она владычествует – я владычествую. В предельном развитии своем подчинение рождает господствование. И в этом пределе нет уже ни того ни другого, а только единство двух воль, двух я, единство властвования и подчинения, жизни и смерти. Оно сказывается даже в разорванности нашей эмпирии. Им объясняется странное чувство, всплывающее в изнасилованной любимым. – Ощущение несправедливой униженности, испытанного насилия часто неожиданно сменяется жалостью к насильнику, словно он не наслаждался, а страдал, не насиловал, а сам испытывал насилие. Откуда это иррациональное чувство, каков смысл этой жалости нежной, если она всегда обманывает, если насильник на самом деле не жалок, как безвольный раб увлекшей его чрез любимую стихии? Он не довел до предела напряжение своей воли к властвованию, не преодолел темного в себе влечения чрез отожествление своей воли с волей любимой. Вместо того, чтобы стать господином, он стал рабом, но не рабом любимой – тогда бы он стал и господином ее – а рабом темной силы, сломившей и любимую и его самого. Поэтому он должен испытывать чувство унижения и стыда, чувство отвращения к себе и даже к любимой, которая без борьбы уступила ему, не устояла; должен мучаться своим одиночеством, ибо не полон был плотской их союз. Omne animal post coitum triste4.