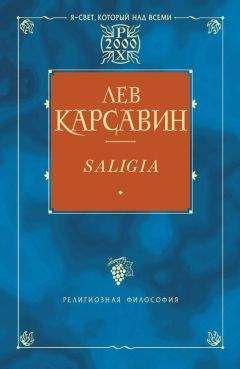Итак, само стремление господствовать и насильничать, причинить смерть естественно и необходимо в любви, как неполное ее, ограниченное выражение. Часто оно проявляется грубо и жестоко, как первобытное рабовладельчество, но часто принимает вид изысканного мучительства, захватывая всю сферу душевности. Предполагая жажду подчинения и рабствования, оно словно испытует, есть ли еще сила другого, им, насилием, не сломленная; издевается, истязает. Нередко бурная и нетерпеливая стихия не ждет мольбы, жажды быть властвуемой, ломая все препятствия, неудержимая, самоутвержденная. Не всеми прощается такое насилие, и прощается с трудом, оставляя на всю жизнь болезненные следы, сглаживаемые лишь печальными зорями старости. Но в этом случае не осуществлено и само властвование: не все подчинено и взято – осталось сопротивление воли, только внешне сломленное, не было вольного подчинения. Властвование может стать полным лишь тогда, когда подчинена и воля, т. е. когда обе воли, подчиняющая и подчиняемая, стали одной. И не совершается ли во всякой любви необходимое для такого слияния уподобление воли властвующего воле властвуемой, нет ли во всякой любви и вольного подчинения? – Я хочу господствовать не над вещью или телом, а над личностью, над данной личностью, над любимой моей и жду от нее именно такого, свойственного ей и только ей ответа. Всем этим образуется, определяется моя воля, подчиняется вольно воле любимой моей, сливается с нею в единство. Вот почему вслед за самим актом обладания в душе обладавшего рождается чувство нежной благодарности, преодолевающее отвращение и стыд, превозмогающее тоску одиночества. Свободно, свободно отдалася любимая: был одним ты с нею хотя бы одно мгновенье!
3. Есть своя правда и в рабовладении и в рабствовании, хотя и бытие ущербленное, ограниченное. И то и другое как бы два разъединившихся лика Любви, живых в ее единстве. И к этому единству одинаково стремятся и Митя и Федор Павлович. Но если правда все мною наблюденное, в обоих, и в отце и в сыне, должен проявляться и второй лик Любви: не могут они быть только «злыми насекомыми», не подниматься душою от низости. Он и проявляется. – Как представляет себе Дмитрий Федорович свое возможное будущее с Грушенькой? – «Буду мужем ее, в супруги удостоюсь, а коли придет любовник, выйду в другую комнату. У ее приятелей буду калоши грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать». Здесь много чувства оскорбленного человеческого достоинства и горечи, но по существу – готовность беспредельного подчинения. Митя подымается выше, удаляясь от всего похотливого, когда мчится в Мокрое, чтобы в последний раз взглянуть на Грушеньку и умереть. Любовь, сама Жизнь, довела его в самоотвержении до последней грани своей – до Смерти. И глубокою искренностью прозвучало стенание его истерзанной хождениями по мукам души: «Прости, Груша, меня за любовь мою, за то, что любовью моею и тебя сгубил». Митя уже знает, что единство Любви нерасторжимо и гибель одного неизбежно влечет за собою гибель другого. И не о «цветочках польдекоковских», не об «изгибе», не о господствовании думает он, полный Любовью в преддверии Смерти. Но Любовь – Жизнь. И в страшную минуту полной оставленности и отчаяния подымается Митя до яркого сознания единства и соравенства с любимой, до трогательно-благородных, хотя и наивно-неуклюжих слов, торжественно прозвучавших в заплеванной комнате грязного трактира: «Спасибо, Аграфена Александровна, поддержала душу!»
Все это Митя, не Федор Павлович. – Но разве уже совсем не заметно того же и в Федоре Павловиче? – Мне кажется, мы ошибаемся, испытывая вместе с Митею только чувство омерзения, когда всматриваемся в лицо старика и вслушиваемся в его голос, окликающий Грушеньку, когда не хотим вникать в глубокую нежность неожиданных в его устах эпитетов: «маточка», «ангелочек», «цыпленочек». Здесь рабствование и нежность, та нежность, которая не знает: как назвать любимую, какое новое имя для нее измыслить, которой хочется принять любимую как милого наивного ребенка. И не чувство ли благородного негодования и настоящая идеализация, т. е. познание умопостигаемой личности, – пускай сопровождаемые шутовством: без него Федору Павловичу не обойтись – вспыхнули в нем, когда он в келье старца Зосимы вступился за ту, которую оскорбили, назвав «тварью» и «скверного поведения женщиной»? Федор Павлович Карамазов, угодливый подхалим, битый в собственном своем доме, – рыцарь? – Да; трусливый и хитрый, дрожащий за свою жизнь, он забывает обо всем, когда Дмитрий врывается в его дом в поисках Грушеньки. Он уже не трепещет от страха; его приходится держать: страха как не бывало…
В душе Федора Павловича просыпаются неожиданные, казалось бы, чувства. Сына своего Алешу он «полюбил искренно и глубоко». «Как бы что-то проснулось в этом безвременном старике из того, что давно уже заглохло в душе его: «Знаешь ли ты», стал он часто говорить Алеше, приглядываясь к нему, «что ты на нее похож, на кликушу-то?» В сыне он увидел мать и снова, может быть, полюбил ее, только более чистой и светлой любовью, тою, какой любят умерших. Алеша несет ему радость и свет; Алеша открывает нам самую глубь души Федора Павловича: «Сердце у Вас лучше головы».
«Не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего все лишь выходит». Так говорит Федору Павловичу старец Зосима. – Федор Павлович, этот срамник и бесстыдник, стыдлив; он жертва своей стыдливости. Он чувствует влекущую его стихию, которая ломает волю, но он не хочет обмана, а жаждет правды, «натурального вида», хотя этот вид и пугает его самого. Ощущая внутреннюю красоту и правду, лежащие в основе его вожделений и ими искажаемые, Федор Павлович не может всецело себе поверить и, как и сын его Дмитрий, в недоумении и колебании стоит перед неразрешимой загадкой. Его давят внешние, условные схемы: он раб ходячих взглядов и оценок, хотя и лукавый, непокорный раб. Он как-то признает эти схемы. Отсюда – озорство и срамота, все-таки не доводящие до натурального вида: до обнаружения того, правду чего он внутренно чувствует. И дело не только в преодолении внешнего: схемы живут в самом сознании, неотрывны от него, и чувство распада и возмущения проникает в самую глубь души. Преодолеть этот разлад внешним озорством и ёрничаньем невозможно. Он остается во всей своей внутренней остроте и невыносимости, сказываясь в борьбе с самим собою, в порывистом утверждении своей правды, в лихорадочном, неосмысленном осуществлении мимолетных своих желаний, в которые не удается окончательно поверить, которые невозможно понять как всеединую, целостную правду.
Низменна карамазовская любовь, мелкая, дробная. В ней нет собранности; нет центра в ее безобразной и безобразной стихии, но каждый момент этой стихии на мгновение становится отъединяющимся от всего, замыкающимся в себе и быстро исчезающим центром. И тем не менее из этой любви растет вещее знание, в ней рвется наружу безмерная сила, из ее зыбкого болота подымаются чистые, белые цветы. Мучительство и насильничество перерождаются в нежность и жертвенность; одинокое самоутверждение – в самоотдачу. На миг раскрывается первозданное единство. Но коснувшись светлых вершин, эта любовь снова низвергается в топкое болото, становится сладострастием жалкого насекомого. Федор Павлович рождает Ивана, глубокий и тонкий, больной от правдивости своей, неутомимый и жестоко-истязующий себя и других в своих исканиях ум, рождает Дмитрия, «горячее сердце», и Алешу с его чутким пониманием людей и мира, с его нежною любовью, родною «серафической любви» старца Зосимы; но он, он же рождает и Павла Федоровича Смердякова, отцеубийцу и самоубийцу единой жизни, нелепо, но вдохновенно изливает свое сердце и в чужих стихах и в прозе.
«Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут… Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает, что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Ведь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, – знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».
4. Как в зеркале вогнутом, в карамазовской любви отражается Всеединая Любовь. Ее черты искажены, но это все-таки ее черты: мы их узнаем. – И карамазовская любовь – чудесное ведение, необычайно тонкое познание, не только разлагающее, как разум, но и единящее, как ум. Этим она несравнимо превосходит так называемую любовь, любовь средних людей, обывательскую, имени своего недостойную. Но она не только ведение – она мощная стихия, властно захватывающая все существо человека, несущая безумие, влекущая на преступление и гибель. Она доводит до граней Смерти, кровно связанной с нею.
В своих противоречиях карамазовская любовь таит единство и единством связует их и переплавляет друг в друга. Потому-то в ней и «берега сходятся» и «все противоречия вместе живут», как с удивительной прозорливостью замечает Митя; потому-то в ней и «дьявол с Богом борется». То она – безудержное стремление к власти, насилию, убийству, могучее, но слепое и в слепоте своей недостаточное, кидающееся из стороны в сторону, теряющее силы и мельчающее; то подымается она до предощущения истинного двуединства и соравенства; то живет в чистоте и самоотречении – то падает до грязного и тупого сладострастия насекомого. И в гнуснейших проявлениях своих, в Содоме, грезит она о Мадонне, все же ощущая какую-то свою правоту; и поднявшись до светлого лика Мадонны, с тоской низвергается назад, в мертвое море Содома.