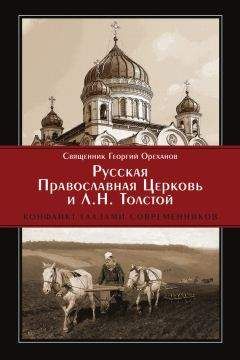Но важно и другое. Тенденция отождествлять религию и мораль, исключая из последней метафизический элемент, приводит в конечном счете к обесцениванию веры: христианское, религиозное мировоззрение есть мировоззрение целостное, это целостный взгляд на мир, на его законы, на человека. Именно при таком подходе можно ставить вопрос о соотношении понятий «вера» и «наука», «вера» и «культура», «наука» и «чудо». Не случайно в утилитарно-моралистическом тоталитаризме Л. Н. Толстого нет места ни науке, ни культуре, ни чуду.
В произведениях Л. Н. Толстого антропологический оптимизм нашел яркое логическое завершение. В письме Н. Н. Страхову в июне 1881 г. писатель предельно четко формулирует свою мысль, указывая, что пессимистический взгляд на человеческую природу считает дурным: «Человек всегда хорош, и если он делает дурно, то надо искать источник зла в соблазнах, вовлекавших его в зло, а не в дурных свойствах гордости, невежества. И для того чтобы указать соблазны, вовлекшие революционеров в убийство, нечего далеко ходить. Переполненная Сибирь, тюрьмы, войны, виселицы, нищета народа, кощунство, жадность и жестокость властей – не отговорки, а настоящий источник соблазна»[100]. В другом месте переписки Л. Н. Толстой указывает, что он категорически не признает «пророчества», согласно которому люди «никогда не начнут жить благодетельным разумом»; «весь и единственный» смысл своей жизни он видит в преобразовании традиционных форм жизни соответственно требованиям «любовного разума или разумной любви»[101]. В дневнике (17 мая 1896 г.) Л. Н. Толстой отмечает: Бог «вложил в человека Свой разум, освобождающий в человеке любовь, и все, что Он хочет, будет сделано человеком» (ПСС. Т. 53. С. 92). В другом месте: «Смысл жизни открывается человеку, когда он признает собою свою божественную сущность, заключенную в телесную оболочку. Смысл этот в том, что сущность эта, стремясь к своему освобождению, расширению области любви, совершает этим расширением дело Божие, состоящее в установлении Царства Божьего на земле» (ПСС. Т. 53. С. 53).
Более того, можно утверждать, что со временем в Толстом укореняется своеобразная уверенность не только в автономной способности человека творить добро на земле, но даже в общем прогрессе всего человечества в целом, – в дневнике от 3 августа 1898 г. он указывает на основную ошибку марксистов: они не видят того, что жизнью человечества движут не экономические факторы, а «рост сознания, движение религии – все более и более ясное, общее, удовлетворяющее всем вопросам понимание жизни» (ПСС. Т. 53. С. 206). Подобная точка зрения подробно аргументируется и в религиозных трактатах писателя.
Очень примечательно и важно, что спутником такого взгляда на природу человеческую является соответствующее представление о природе божественной: как замечает Г. Штайнер, здесь проявляется своеобразное психологическое несторианство, вообще свойственное, по его мнению, большинству художников, для которых характерно оттенение человечества Христа[102]. Уже через четыре года после своего знакомства с Л. Н. Толстым В. Г. Чертков указывает писателю на то, что возможен только один правильный взгляд на Личность Христа – не через призму Церкви или науки, а непосредственно, будучи Его прямым учеником. Если человек не прямо у Христа черпает и проверяет себя, он стоит на ужасно шаткой почве (см.: ПСС. Т. 86. С. 55).
Эти идеи постоянно развивались Л. Н. Толстым. Хорошо известно, с какой настойчивостью он отстаивал идею разъяснения сути учения Христа, в финале переходящего в «разумение», которое «само родится, когда знает и когда хочет и в той форме и в том человеке, в каком хочет. Вы напишете в письме, Емельян скажет в разговоре, я, Хилков, Поша, даже люди совсем чужие нам почувствуют, подумают, скажут, сделают – и из этого всего слагается разумение и является выражение его, самородное» (ПСС. Т. 86. С. 198–199)[103]. Эти слова Л. Н. Толстого не имеют никакой мистической окраски: истинные ученики Христа – те, кто, не веруя в Его Божество, отрицая Его Церковь, не признавая действия в мире Святого Духа, распространяют Его учение. Именно они впервые за две тысячи лет правильно поняли суть самого учения и готовы его проповедовать. И эта проповедь принесет на земле обильные плоды.
Неудивительно, что подобный антропологический оптимизм во второй половине XIX в. нашел большое количество сторонников, – мысль сделать мир добрее и справедливее таким простым способом очень притягательна. В особенности русский мир, действительно полный страданий и человеческого несчастья. И эта жажда добра имеет, безусловно, евангельские корни. Евангелие постоянно призывает человека умножать количество любви на земле: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, оказать медицинскую помощь больному, просветить безграмотного, посетить заключенного в темницу. Глубоко справедлив и праведен гнев тех русских проповедников, которые подчеркивали ложный, греховный, фарисейский характер «христианства», дающего возможность ребенку умереть от голода и холода на глазах у сотен сытых людей, проходящих мимо него (вспомним рассказ Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»). Но совершая дела любви без Бога, человек всегда оказывается у определенной черты, перейти которую своими силами неспособен: проявляя часто великую самоотверженность и большую любовь в борьбе с «большим злом», он не в состоянии победить «маленькое зло». Таким «малым злом» стала для Л. Н. Толстого его семейная жизнь.
В антропологическом оптимизме присутствует своеобразный восторг – головокружение от факта своего появления на грешной земле и уверенность в том, что на этой земле до тебя никто не понимал, как эта греховность должна устраняться. В. Г. Чертков эту мысль выразил в письме Л. Н. Толстому предельно ясно: «Мне кажется, что настало время, чтобы, по крайней мере, в сознании людей приложение учения Христа выяснилось целиком» (ПСС. Т. 86. С. 214–215).
Здесь антропологический оптимизм переходит уже в стадию своеобразного гуманистического максимализма – человек сам для себя решает не только вопрос о том, правильно ли он понял учение Христа, но и вопрос о содержании этого учения, которое, как правило, трансформируется в направлении взглядов самого «гуру». Именно поэтому уже в конце жизни Л. Н. Толстой утверждал не только то, что понимает учение Христа, но и то, что может его исправлять и улучшать. Не случайно Л. Н. Толстой совершенно отрицал покаяние в традиционном христианском смысле, причем не только как признание своей априорной испорченности, хуже чего, по мнению писателя, нет ничего, но и фактически покаяние в своих личных грехах[104].
На этой зыбкой почве могут созреть только обманчивые плоды – гордость в сфере мотивации и поступков и фарисейство в области отношений с окружающими людьми. И образцов такой реальной беспомощности в отношениях с самыми близкими людьми, например с женой и детьми, в жизни писателя вполне достаточно, об этом много пишет в своих воспоминаниях и дневниках сама графиня С. А. Толстая.
В конечном счете антропологический оптимизм переходит в один из «антихристовых соблазнов», для которых, по замечанию Н. А. Бердяева, так благоприятна природа русского человека. Именно здесь лежит корень бунта против Бога, основанием для которого является устройство Божьего мира. И выразителем этого бунта является Иван Карамазов, в основе вопроса которого лежит ложная «чувствительность и сентиментальность, ложное сострадание к человеку, доведенное до ненависти к Богу и божественному смыслу мировой жизни <…> Русский нигилист-моралист думает, что он любит человека и сострадает человеку более, чем Бог, что он исправит замысел Божий о человеке и мире. Невероятная притязательность характерна для этого душевного типа. Из истории, которую русские мальчики делали Богу по поводу слезинки ребенка и слез народа, из их возвышенных разговоров по трактирам родилась идеология русской революции»[105]. Именно на этом пути вырастает утопический «замысел спасения мира устрояющей самочинной волей человека», когда эта воля, которая руководится не личной корыстью, а «нравственным мотивом любви к людям, стремлением спасти их от страданий и неправды и утвердить праведный порядок жизни», может, сочетаясь с дерзновенным своеволием, выродиться в преступное и гибельное безумие[106]. В этом заключается трагический парадокс человеческой истории – творят изощренное зло и проливают человеческую кровь в невообразимых масштабах именно те иваны карамазовы, которые предъявляют Богу счет по поводу слезинки ребенка и возвращают Ему билет в Небесное Царство, а сами спасают человечество на земле.
Таким образом, можно констатировать, что именно моральный утилитаризм в наибольшей степени определил не только близость идей Л. Н. Толстого и взглядов представителей интеллигенции, но и степень его влияния на нее в последней четверти XIX в.[107]