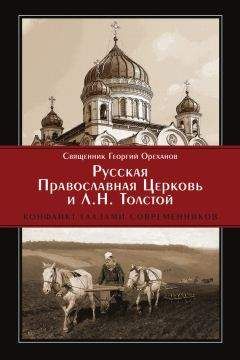Таким образом, можно констатировать, что именно моральный утилитаризм в наибольшей степени определил не только близость идей Л. Н. Толстого и взглядов представителей интеллигенции, но и степень его влияния на нее в последней четверти XIX в.[107]
Антропологический оптимизм теснейшим образом связан еще с одной, может быть, основной характеристикой рассматриваемого типа мировоззрения.
Адогматизм. В истории религиозных движений в Новое время практически всегда верным спутником «панморализма» является адогматизм и отрицание в той или иной степени необходимости мистической стороны в христианском учении. В связи с этим еще раз следует вспомнить проницательное замечание архиеп. Иоанна (Шаховского) о сложном характере связи правды и неправды в мировоззрении и творчестве Л. Н. Толстого: в его правде всегда присутствует неправда, и наоборот – глубокие интуиции о человеке, о его духовной жизни сложно переплетены с духовной нечувственностью, полным отрицанием догматико-мистической стороны в вере, отрицанием, которое в итоге приводит к абсолютной бесплодности его концепции личности.
Эта пестрота мировоззрения дает основание некоторым исследователям (Р. Ф. Густафсон, А. Б. Тарасов) утверждать, что в мировоззрении Л. Н. Толстого присутствуют православные мотивы, что его творчество, как художественное, так и религиозное, несет на себе следы христианской традиции.
Подобные утверждения требуют большой осмотрительности в дефинициях. Нужно ясно отдавать себе отчет, какую традицию мы именуем христианской. Приблизительно к середине XIX в. фактически формируется тенденция противопоставлять два типа христианской практики – христианство деятельное, основанное на любви и исполнении евангельских заповедей, и христианство умозрительное, мистическое, «догму», причем в последнем случае возникает большое искушение этот тип христианства объявить безжизненным, мертвым.
То, что называется часто в современных философских и литературоведческих работах «христианским контекстом», «православными мотивами», есть часто, по очень точному определению К. Н. Леонтьева, «привычка христианской мысли», т. е. расплывчатые рассуждения о «христианских» моральных ценностях, в первую очередь, конечно, о любви, без «основ вероучения», заметим, часто хотя бы на уровне самого простого катехизиса. Не случайно здесь же К. Н. Леонтьев добавляет, что тот, кто пишет о любви «будто бы христианской», не принимая этих основ, есть «враг христианства самый обманчивый и самый опасный»[108].
Исторически именно на этой почве рождается «Новое Евангелие», которое оказалось более близким «истинным ученикам Христа» и в итоге вытеснило традиционное, святоотеческое понимание Евангелия и святости.
Характерно, что популярность этого «евангелия» в России объясняется взаимосвязью двух факторов. С одной стороны, безальтернативное доверие достижениям науки и протестантской библейской критики, яркими представителями которой являлись Д.-Ф. Штраус и Э. Ренан, произведения которых имели популярность и распространение далеко не только в академической среде. Позже эта тенденция получила развитие в работах представителей так называемой тюбингенской школы.
Но библейская критика в своем популярном варианте была хорошо известна во всей Европе, с этой точки зрения она должна рассматриваться в качестве важнейшего фактора интеллектуальной жизни европейского человека второй половины XIX в. Вторым фактором, характерным, специфическим для России явлением, достаточно неожиданно с психологической точки зрения способствовавшим развитию адогматизма, стало жгучее переживание народного горя, неправды, нищеты: сострадание «маленькому человеку», имеющее глубокие евангельские корни, в русской литературе является одной из главных идеологических доминант, нет необходимости здесь ссылаться на какие-то общеизвестные примеры, достаточно указать только на русскую поэзию («Эти бедные селенья» Ф. Тютчева, «Осенние журавли» А. Жемчужникова): Россия – страна горя и страдания.
В русской культуре возникает большое искушение этот аспект страдания объявить не только главным, но и вообще единственным. Происходит достаточно тонкая, психологически очень привлекательная и исторически вполне объяснимая подмена: призыв к спасению души, призыв, целью которого является внутренняя работа, заменяется на призыв к спасению мира. Сотериологически окрашенная евангельская боль о своем собственном несовершенстве, глубоко связанная в Евангелии с любовью к ближнему, заменяется на моралистически окрашенную тоску о человеческом горе. Если до определенного момента эти два аспекта были глубоко связаны и находили опору в традиционном понимании Евангелия, то теперь эта связь разрывается.
Новая вера есть уже не религия, а религиозность, специфический настрой души, связанный с представлением об особой миссии человека на земле и об особой этике поведения[109]. Яркой особенностью этого нового мировоззрения и является адогматизм и тотальная невосприимчивость именно к мистической стороне «исторического» христианства, в частности, полное равнодушие к церковным Таинствам, а также, по меткому замечанию гр. А. А. Толстой, наивное желание «поправить кое-что в сотворении мира»[110].
По-своему интересное теоретическое «обоснование» адогматическая концепция нашла в одном из писем Н. Н. Страхова, бывшего семинариста, к Л. Н. Толстому. Н. Н. Страхов, выражая солидарность с известными взглядами писателя на роль Церкви в жизни современного человека, указывает, что, с его точки зрения, «христианство уже стало покидать форму Церкви», ибо Церковь возникла во время «падения древнего мира», когда существовала необходимость противопоставить «крепкое сообщество» разлагавшемуся государству, а церковная догматика возникла в качестве противовеса «тогдашней языческой мудрости». «Но в настоящее время ни догматы, ни церковь не могут иметь такого значения и напрасно пытаются удержать прежнюю главную роль»[111]. Интересно, что письмо это было написано по поводу обсуждения в печати католической теории догматического развития, и в частности нового католического догмата о папской непогрешимости.
Своеобразный итог этому этапу истории русской интеллигенции подводит на заседаниях Религиозно-философских собраний 1901–1903 гг. Д. С. Мережковский: «Для нас христианство в высшей степени неожиданно, празднично <…> Вот мы именно эти непризванные, не приглашенные на пир – прохожие с большой дороги – мытари, грешники, блудники, разбойники, босяки, анархисты и нигилисты. Мы еще в темноте нашей ночи, но уже услышали второй зов Жениха и робко, стыдясь своего неблагообразного, не духовного, не церковного вида, подходим к брачному чертогу, и мы ослеплены сиянием праздника; а мертвая академическая догматика – это старая, верная прислуга хозяина, которая не пускает нас <…> Мы пришли радоваться празднику, а этому ни за что не хотят поверить»[112]. В этих откровенных признаниях, по-своему искренних, была и оборотная сторона, проницательно замеченная и глубоко проанализированная С. Н. Булгаковым в веховской статье «Героизм и подвижничество»: эта открытость далеко не всегда сочеталась с духовной нищетой, т. е. готовностью не учить Церковь, а учиться у Церкви, поэтому и проявлялась в созидании «церковного революционаризма», созидании новых форм церковной жизни, неготовности со смирением проникать в глубину святоотеческой мудрости.
Именно здесь, в сочетании указанных выше факторов, нужно видеть главную причину рождения совершенно новой, неевангельской, нецерковной по своему происхождению «христологии» (естественно, в очень условном смысле слова).
Другими словами, в определенный момент в русской культуре начинается напряженный поиск образа Христа. Этот поиск представляет собой совершенно конкретную историческую проблему: под каким углом зрения воспринимал евангельское повествование русский читатель второй половины XIX в.? Нужно при этом учитывать, что вообще до определенного момента, т. е. до перевода текста Нового Завета на русский литературный язык и издания этого текста (впервые осуществленного благодаря усилиям Библейского общества в эпоху императора Александра I), русскому читателю был доступен либо славянский текст, либо иностранные переводы (очень характерно, что сам Александр I пользовался французским переводом Евангелия). В этой ситуации вопрос об отношении ко Христу становится важной чертой времени – неслучайно в религиозной живописи второй половины XIX в. такое большое значение приобретает именно Личность Самого Спасителя, а не другие религиозные сюжеты, – достаточно вспомнить произведения А. И. Иванова, И. Н. Крамского, Н. Н. Ге, В. Д. Поленова и т. д.[113] Именно русские художники послужили идее упрощенного просвещенчества, но они постоянно напоминали русскому обществу о Христе.