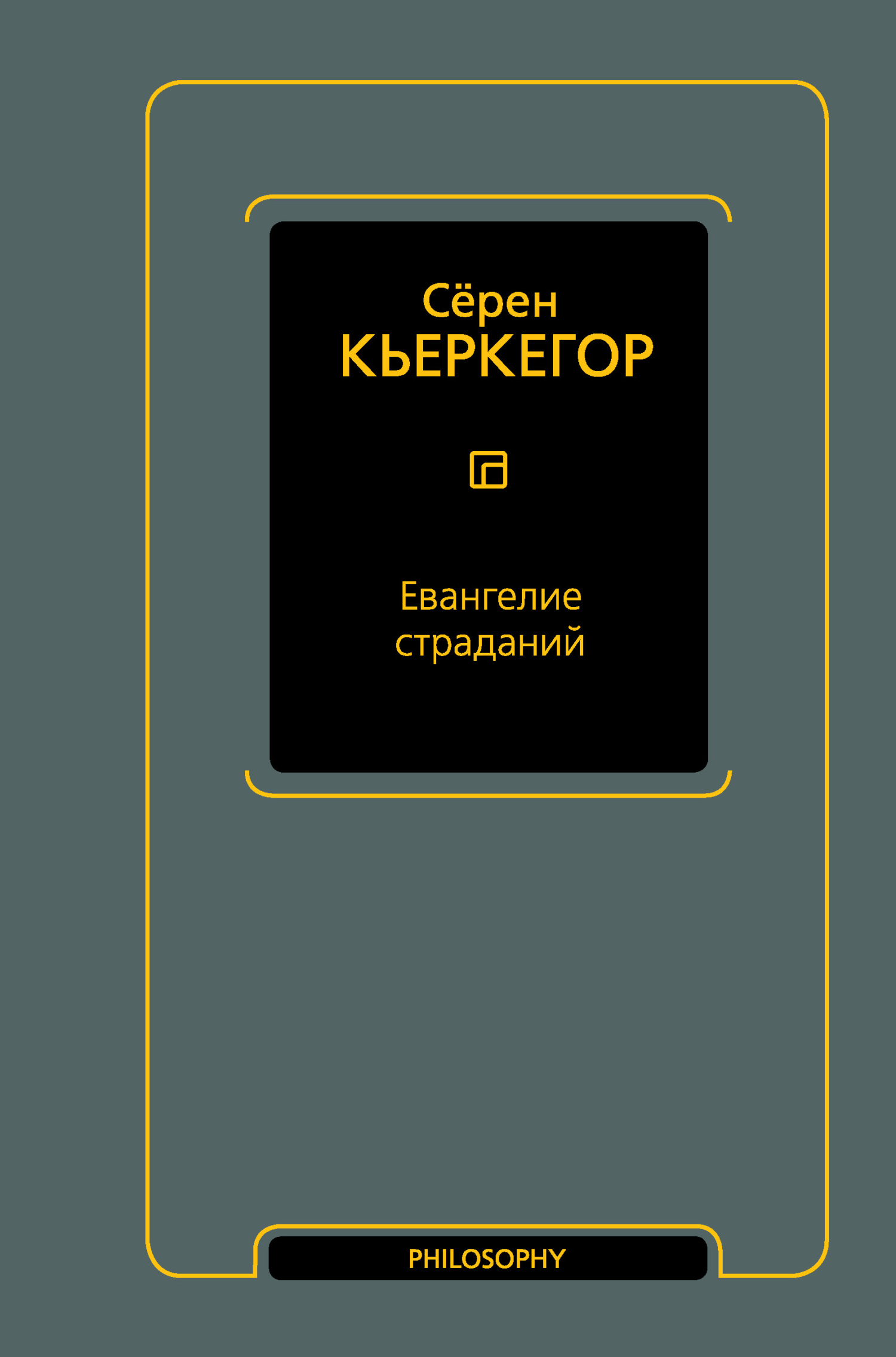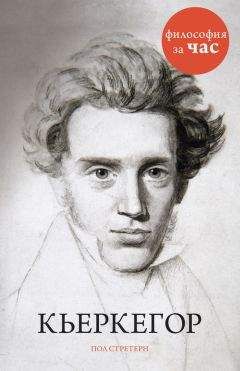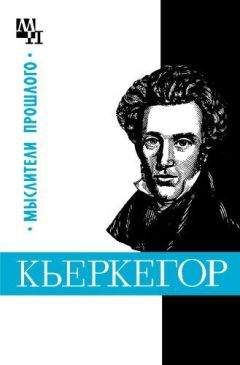которой мы говорим. Ведь если ты, спасенный, находишь покой в этой премудрости, то твоему человеческому великодушию нечем, совершенно нечем хвалиться: оно совершенно исчерпано в противостоянии возможности раздражиться или начать насмехаться и может только смиренно принять то, что для него является спасительной силой Божией.
Была ли в твоем сердце эта сокровенная премудрость, мой слушатель, и не стала ли она, – хотя и не будучи рождена в твоем сердце, – для тебя постепенно чем-то настолько естественным, словно твое сердце было местом ее рождения? О! допустим, какой-нибудь человек сохранил в своей душе слово, которое некогда спасло его, когда ему было совсем тяжко! Возможно, это слово было простым и незамысловатым, возможно, оно стало очень ему понятно, когда он поразмыслил над ним, возможно, он мог бы с предельной внятностью, возможной в языке, объяснить его всем, но одного он не мог бы сделать – не мог бы объяснить, как оно родилось в нем именно в тот тяжкий час; он мог бы проследить, каково было значение этого слова для всей его дальнейшей жизни, но он не мог бы объяснить, почему, когда ему было совсем тяжко, ему помогло именно это слово; и разве он, став взрослее и старше, сможет и захочет сделать так, чтобы это слово утратило для него свою таинственную, сокровенную силу? Или если бы у некоего человека был тайный друг, о котором он с благодарностью рассказывал бы, как этот друг много раз выручал его в самых разных обстоятельствах на протяжении многих лет жизни, но при этом не мог бы объяснить, как этот друг находил его, когда сам он напрасно искал его в этом огромном мире, – сможет ли и захочет ли этот человек сделать так, чтобы эта таинственная связь утратила свой удивительный характер? Или если бы был какой-нибудь милостивый человек, которому некогда ты был должен все, что имел, и никто бы не мог без глубокого волнения слушать твой рассказ о том, что прощение этого долга не просто спасло тебя от нищеты, но стало началом и причиной твоего благосостояния, но ты не мог бы объяснить его поступок, и всякий раз, думая об этом и о своем долге, ты, как и тогда, говорил бы в себе: это невозможно, – разве ты смог бы и захотел бы сделать его удивительное решение менее для тебя удивительным, разве ты стал бы и захотел бы слушать того, кто попытался бы тебе объяснить, что ты никогда и не был ничего должен, что твой долг был лишь кажущимся, ведь само понятие долга можно упразднить, поскольку все люди друг другу должны, и что твоя благодарность поэтому является заблуждением? Так и с этой сокровенной премудростью: даже если она помогла человеку все понять, открыла его глаза, чтобы он мог видеть, отверзла его уста, чтобы он мог говорить, расширила его сердце, чтобы он мог вместить глубокое, разве может она быть явлена человеку лишенной всякой таинственности? И если человек захочет забыть, сколь удивительной была его первая встреча с этой премудростью, или станет лгать себе, будто в ней не было ничего удивительного, то он лишь все для себя исказит и испортит. И всякий раз, когда он пожелает вновь вернуться к первому ее появлению в его душе, он увидит опять же раздражение и насмешку стоящими на страже тесных врат – врат веры.
Но если эта сокровенная премудрость все же была в твоем сердце, хотя и не в нем она родилась, то мы понимаем, благодаря чему она была там: она была в твоем сердце благодаря вере. Ибо вера для иудеев соблазн, потому что она не желает внести в твое существо раздор, но желает примирить тебя с тобой же самим; а для эллинов она безумие, потому что она желает примирить тебя с тобой же самим, но не посредством тебя самого.
* * *
Мой слушатель, эта беседа не бродила по миру, в котором она нашла бы борьбу, где нет победителей, но и не пыталась укрыться от этой борьбы; она держалась тебя, мой слушатель, не думая что-то тебе разъяснить, но желая, сохраняя тайну, поговорить с тобой о твоих отношениях с этой сокровенной, таинственной премудростью. О! да не нарушит ничто твоих с ней отношений: ни жизнь, ни смерть, ни настоящее, ни будущее, ни другая какая тварь [396] – ни эта беседа, которая даже если и не принесла никакой пользы, все же направляла свои усилия к тому, что есть первое и последнее: к тому, чтобы ты, как говорит Писание, имел веру сам в себе, пред Богом (Рим 14:22).
Иоганн Георг Гаман (1730–1788), гениальный мыслитель-христианин 18 века, работы которого отличаются намеренно сложным построением, во многом является предшественником Кьеркегора, прекрасно знавшего его труды. Работу Гамана с псевдонимами можно видеть, прежде всего, в его полемике с гердеровским «Трактатом о происхождении языка».
Впрочем, известна и проповедь С. Кьеркегора, которую он, будучи магистром богословия, прочитал в 1844 г. в церкви Св. Троицы в Копенгагене. Русский перевод этой проповеди вы также найдете в данной книге.
1 Кор 1:9, 10:13; 2 Кор 1:18.
Деян 14:17.
Ин 4:24.
Эти слова, взятые С. Кьеркегором в кавычки, отсылают, по-видимому, к работе морского офицера Ф. К. Лютке «Святое ободрение в часы усталости и задумчивости» (Копенгаген, 1764 г.), в которой, в обращении «К читателю» автор пишет: «Я назвал эти размышления “Святое ободрение в часы усталости и задумчивости” не потому только, что они были составлены и написаны в такие часы, но потому, что в такие часы они и лучше всего читаются».
5-го мая – день рождения Сёрена Кьеркегора.
А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.