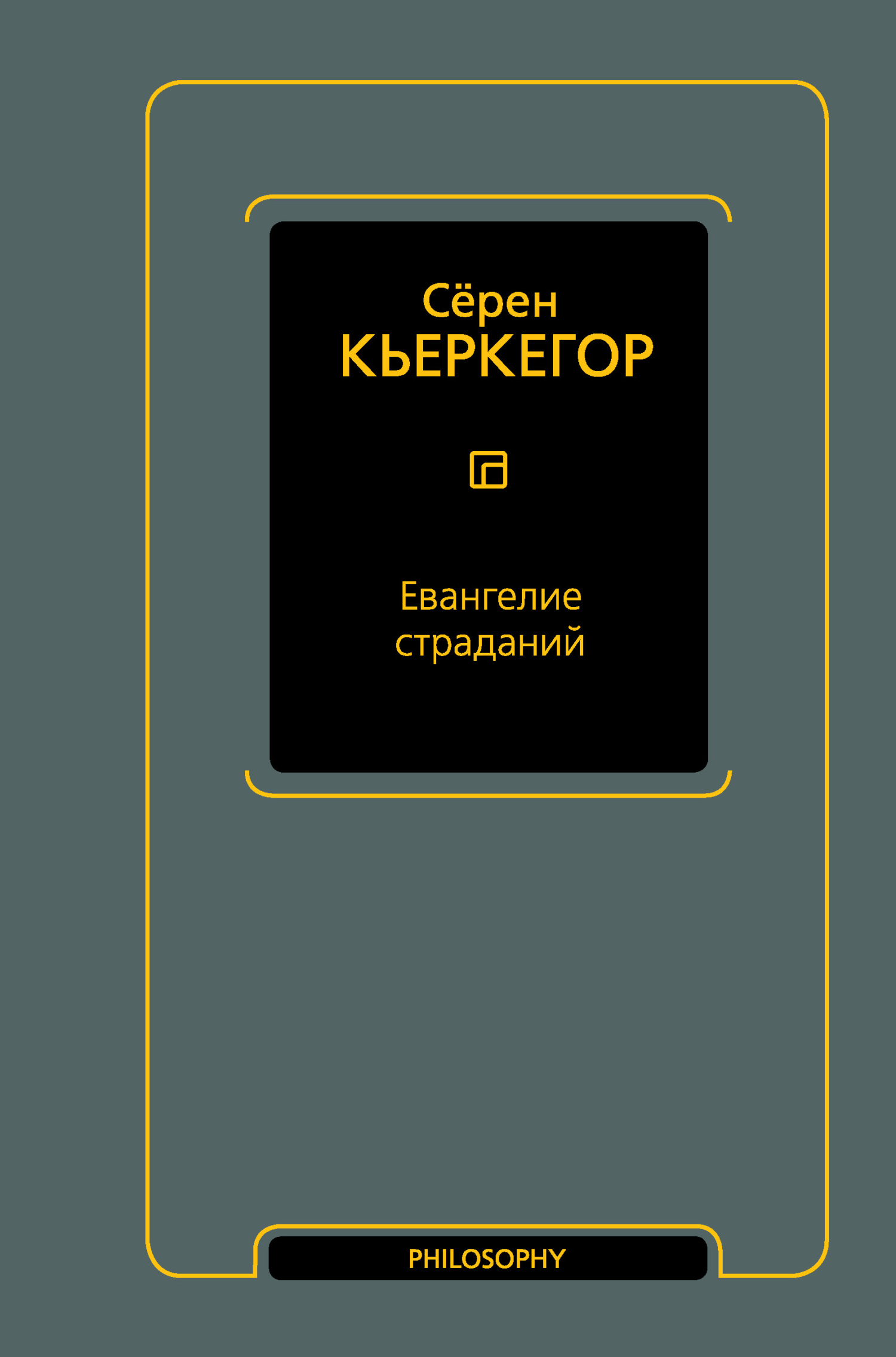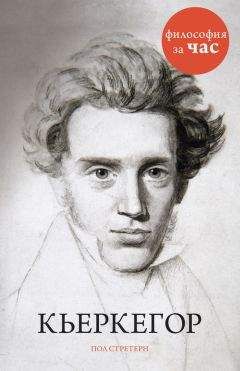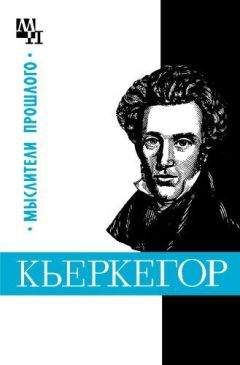веры, которые, несмотря на соблазн раздражиться или начать насмехаться, слушали, чтобы услышать слово веры. Да, блаженны уши, которые это слышали. Но как можешь ты полагать, будто их блаженство заключается в том, что им случилось это услышать? Ведь это всегда и везде беспрепятственно может слышать тот, кто воспринял возвещенное слово.
Слышал ли ты, о чем говорит апостол, мой слушатель, – и как сохранил ты услышанное? Ведь тот, кто слышит лишь звук, тот имеет лишь ощущение, и если он станет слушать человеческую речь, он на самом деле ее не услышит, если не услышит другого; и даже если он и продолжит слушать, не слыша, пока другой будет говорить, он ничего на самом деле не услышит. Сохранил ли ты это слово с помощью той честной силы в душе, которая ничего не прибавляет и не убавляет, но в точном и неизменном виде возвращает то, что ей вверено? Пожелаешь ли ты доверить слово этой силе? Конечно, она честна, но когда наступает борение и твоя душа мятется, то ты замечаешь, что ты потому прибегаешь к памяти, что она вместе с тобой претерпевает это смущение. И память принадлежит тебе не вполне, она не тебе одному подчиняется, но зависит от того, над чем ты не властен; ведь время притупляет ее, выманивает у нее мало-помалу то, что ты ей вверил, пока, наконец, не придет то последнее время, когда ты больше всего нуждался бы в слове, о котором мы говорим. И если бы даже память могла его сохранить, чего бы ты мог от нее ожидать? Это слово, конечно, было сказано в прошлом, много столетий назад, а память как раз способна сохранить нечто прошедшее как оно было, и в точности воспроизвести его здесь и сейчас в виде воспоминания, ничего не упуская, но и не позволяя забыть, что это нечто уже прошедшее. Если окажется забыто то, что это нечто прошедшее, изменится и воспоминание, как если бы кто-то отчетливо помнил некое событие, но забыл бы, что прошло уже много лет с тех пор, как все это было. Но ведь слово, о котором мы говорим, принадлежит настоящему в той же мере, что и прошлому; ведь заблуждением было бы считать, будто уши, которым довелось его слышать много столетий назад, блаженнее тех ушей веры, которые слышали это вчера.
Но если ты не слушал это слово так, как его невозможно услышать, мы знаем, как ты слышал его: ты слышал его ушами веры. Ведь вера так же, как и это слово, для иудеев – соблазн, потому что они ищут знамения, которое возвещало бы будущее, тогда как будущее это не что иное, как настоящее; и для эллинов она – безумие, поскольку они ищут мудрости, тогда как настоящее это и есть прошедшее – прошедшее, которое присутствует, не будучи воспроизведением того, что было.
Проповедуя эту сокровенную премудрость, апостол говорит о том, что не приходило на сердце человеку. Было ли это для твоего сердца чем-то таким, что никогда в него не входило, что никогда не давало тебе никакого повода для раздражения или насмешки?
Кто же постиг человеческое сердце?! Даже тому, кто сосредоточенно начал бы наблюдать за своим сердцем, кто стал бы со всем вниманием следить за ним и подмечать каждое его движение, каждое побуждение, что рождается в нем, пришлось бы закончить тем же, с чего он начал: нет ничего столь непостижимого, как человеческое сердце. И если бы кто-то спросил этого человека, что может прийти кому-то другому на сердце, то он, пожалуй, удивился бы этому вопросу, но не нашел бы, что ответить, и попросил бы время на размышление, но когда бы это время прошло, он все равно не смог бы дать ответ. Но раз никакой человек неспособен установить, да никому и не пришло бы на ум пытаться установить, что может, а что не может прийти на сердце человека, кто знает тогда, не приходила ли эта премудрость на сердце какому-нибудь человеку, кто может знать, что не было и не будет ни одного человека ни в захолустье, ни в шумном городе, на сердце кому бы она пришла. Но мы ведь, мой слушатель, говорим о твоих отношениях с этой сокровенной премудростью – об отношениях, которых все это никак не касается, даже если кто-то и стал бы утверждать, что поставленный выше вопрос не может быть решен, пока не будет проверено сердце каждого человека и допрошена каждая приходящая на сердце мысль.
Была ли в твоем сердце эта сокровенная премудрость, или ты лишь говоришь: блаженно сердце, которое сохранило ее? Конечно же, ты не станешь так говорить, ведь ты уже знаешь, благодаря чему она хранится и приобретается всяким человеком без исключения, и знаешь, что всякий может прибегнуть к этому средству, если он того хочет.
И если эта сокровенная премудрость была в твоем сердце, – конечно, не как что-то, что в нем родилось, – но если при этом ты не чувствовал в сердце никакого страдательного сопротивления в виде раздражения или активного сопротивления в виде насмешки, тогда сомнительно, что это на самом деле была та премудрость, о которой мы говорим. И если, быть может, тебе и казалось великодушным говорить, словно бы выражая свое почтение этой премудрости: «Поистине, ничего подобного мне никогда не приходило на сердце», – то это было лишь дерзким в своей восторженности выражением того, как многим ты обязан чему-то другому; и ведь ничто не препятствовало тому, чтобы это пришло и тебе на сердце, – даже если и ясно, что этого не случилось, даже если и похвально, что ты не стал приписывать себе то, чего не было. Даже если эта премудрость и не приходила тебе на сердце, она ведь вошла в него – и вошла в него так, что в нем не могла и не может встретить непонимания в виде раздражения или насмешки. Но ведь это как раз показывает, что это не та премудрость, о которой мы говорим. Ведь хотя возможность раздражения и насмешки и не доказывает, что это – премудрость, но их невозможность показывает, что она в более глубоком смысле не пришла тебе на сердце, даже если она и попала в него случайно вместе с чем-то другим. Когда кто-нибудь в отношении какой-то другой премудрости говорит, что он неспособен на нее раздражиться или начать над ней насмехаться, то это может свидетельствовать о его великодушии. Но такой избыток великодушия и такие самоуверенные слова невозможны, когда дело идет о той премудрости, о