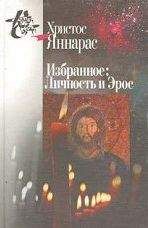^Церковное богопознание есть единообразие жизни (оцотротсш ): действие и факт причастности новому образу, способу бытия. Это не сочетание идей и не нравственные схемы, но бытийная «перемена», производимая благодатью Духа Божьего в безграничных границах свободного и действенного согласия человека. «В них (священных собраниях), — пишет Ареопагит, — зрящий священным образом усматривает единообразную и единую жизнь, движимую единством богоначального Духа»[125].
Церковь представляет собой объективную возможность апофа–тического богопознания, и это апофатическое богопознание есть опыт жизни евхаристического тела. Жизнь сообщается животворным Духом Божьим — тем самым Духом, который «носился над водой» в первый день творения, стал причиной возникновения природного мира и всегда остается подателем подлинной жизни.
4. Апофатическое знание как эротическое общение
Апофатическое знание, будучи опытом личной причастности церковному способу бытия, характеризуется в ареопагитских сочинениях как эротическое событие, как подвиг и дар эротического отношения.
Слова «эрос», «эротический» должны были настораживать и смущать христиан эпохи создания ареопагитского корпуса — так же, как это происходит и сегодня. Поэтому автор «Ареопагитик» посвящает эросу целый ряд параграфов четвертой главы трактата «О божественных именах», стремясь не просто «узаконить» эротическую терминологию, но доказать ее чрезвычайную важность и действенность в жизни Церкви.
Прежде всего, познание Бога есть не научение, но переживание, страсть (naQoc,): «He только научаясь, но и переживая божественное…»[126] Имени «любви» (ауаят|), этого «божественного» имени, часто оказывается недостаточно для выражения самопреодоления и общения личностей, «страстности» личного отношения, из которой рождается знание, открывающееся в переживании. Ведь зачастую в понятие любви вкладывается «облегченное» смысловое содержание: любовь ограничивают узкими рамками социальной добродетели, отождествляя ее с альтруизмом, благотворительностью, естественной привязанностью — то есть с поведенческими качествами, направленными на сохранение и обслуживание эгоцентрической самодостаточности субъекта. Поэтому в ареопагитских сочинениях отдается предпочтение «более божественному» имени «эрос»: «Некоторые из наших богословов пришли к мнению, что имя эроса более божественно, чем «любовь». Пишет же и божественный Игнатий: «Эрос мой распят». И во вводных книгах Писания ты найдешь некоторые изречения о божественной Премудрости: «Возлюбил я ее красоту». Поэтому не будем страшиться имени эроса, и пусть нас не смущает то, что могут говорить о нем другие»[127].
Страх, сомнение, настороженность по поводу связи эротического опыта с событием отношения с Богом идет от человеческого «предубеждения»[128], человеческой настороженности относительно всего эротического, которое мыслится нами только как подвластное бунтующей и самовластной потребности естества, только как жажда эгоцентрического наслаждения. Но нельзя отождествлять «идол» эроса, «искаженный» эрос с «подлинным эросом», пусть даже «толпа» по–прежнему однобоко понимает все, что с ним связано. «Хотя подлинный эрос прославляется как подобающий Богу не только нами, но и Писанием, толпа, не способная постигнуть единообразия эротических именований Бога, склоняется к их частичному, плотскому, разделительному пониманию, которое не есть истинный эрос, но его идол или, вернее, искажение подлинного эроса»[129].
Видовое отличие настоящего эроса от его искажения, принимаемого толпой за эрос, состоит в его цельности, в «единообразии» «подлинного эроса». Эрос есть «божественное именование», то есть приписываемое Богу именно потому, что выражает «единообразие» Троичного божественного Существования, взаимопроникновение в любви Лиц Троицы. По свидетельству Писания, Бог не обладает любовью, но «есть любовь»[130]. Речь идет не о том, что прежде Бог существует, а уже потом Его существование имеет своим признаком любовь; но о том, что Бог есть любовь. Любовь — это способ божественного бытия. Пользуясь относительным человеческим языком, мы говорим, что каждая божественная личная Ипостась обладает не «особым бытием», но реализует бытие как абсолютную самоотдачу любви и бытия другим божественным лицам. Она существует, только любя, и поэтому любит. Существование и любовь, любовь и свобода тождественны в божественных Лицах. Эта эк–статическая бытийная самоотдача и есть эрос, который составляет «божественное именование» и единство бытия и жизни Троичного Бога[131].
«Слабым отражением» «взаимопроникновения» Лиц божественной Троицы является всякий бескорыстный человеческий эрос, в котором «любящие принадлежат не себе, но возлюбленным»[132]. Человек в своей жизни отвечает «образу Божьему» постольку, поскольку реализует бытие как эротическое самопреодоление и самоотдачу, то есть поскольку бытийствует личностно. Ибо «личность» есть прежде всего эротическая категория, а «эрос» — прежде всего категория личностная. И потому человеческая природа бытийствует только в реальных личностях–ипостасях, где личности поистине существуют только во взаимной эротической самоотдаче. Тогда их бытийное «взаимопроникновение» осуществляет и проявляет общее «единообразие» природы, ее «единообразную» кафоличность.
То же, что «толпа» принимает за эрос, есть отчуждение эроса (отчуждение как жизни, как способа бытия), вызванное грехопадением. Именно «падший», «искаженный» эрос «раздробляет», «разделяет», «расчленяет» природу, ибо служит бытийной самоцельности человеческих индивидуумов, их эгоистической жажде наслаждения. Наслаждение — это безличное самоудовлетворение естества, эфемерное удовлетворение его бытийной самоцельности. Оно подчиняет себе человеческого индивидуума как необходимость, как инстинктивное стремление его природы к саморазмножению. Саморазмножающаяся природа по–настоящему существует только в виде суммы смертных индивидуумов. Она существует за счет отправления своих собственных функций, а не благодаря личностному эк–стазу — выходу за пределы бытийных возможностей твари.
В этом смысле можно говорить о «телесности» эроса после грехопадения: эрос уже не обобщает в себе природу в личностном эк–статическом выходе за ее пределы, но подчиняется чувственной, телесной индивидуальной самоцельности и бытийной самодостаточности — тому, что мы называем «биологической необходимостью», стремлением природы к самосохранению и мнимому «увековечению» самой себя.
Но и после грехопадения этот «отелесненный» эрос сохраняет в себе ясный отсвет личностного способа существования. Он по–прежнему остается стремлением и порывом к единению с другой личностью. Даже будучи грубым эгоцентрическим желанием наслаждения, он в то же время сохраняет в себе страстную жажду отношения — жажду неутолимую, но не теряющую от этого устремленности к другой личности. Цель вожделения — телесное слияние с другим человеком в действе порождения жизни (неповторимых личностей–ипостасей), а это действо никогда не может быть свершено в одиночку. Оно требует физического сосуществования, соединения сущностей, сохраняющего в себе нечто от единообразной кафоличности безгрешной природы и подлинной жизни.
Одновременно с этим эрос, даже «отелесненный», указывает на универсальный способ проявления божественных Энергий в мире: Энергий творящей любви, порождающих материю, жизнь и неповторимое своеобразие личностей; и Энергий промысли–тельных, совокупляющих и сочетающих все существующее в едином мощном порыве к слиянию. Ибо «Эрос — все равно, назовем ли мы его божественным или ангельским, духовным или физическим, — понимается нами как некая мощь единения и слияния, которая побуждает высшие существа промышлять над низшими, равноначальные же ведет к взаимообщению и, наконец, низшие обращает к более совершенным и вышестоящим»[133].
Эта объединяющая мощь эроса, в противоположность стремлению падшей природы к бытийной самодостаточности отдельных индивидуумов, служит проявлением динамики жизни. Она не исчезла после грехопадения, но по–прежнему остается твар–ным образом троичного прообраза подлинной жизни. Эта мощь эроса — тот самый порыв, благодаря которому сохраняется как биологическая жизнь, так и возможность отношения человека с Богом. Автор Ареопагитик перефразирует текст Ветхого Завета: «Твоя любовь обрушилась на меня, как любовь женщины»[134]. Тем самым он хочет подчеркнуть тождество эротического влечения: это та же самая сила любви, тот же самый порыв к слиянию, который вдохновляет как человеческий эрос, так и эрос божественный[135]. Вожделение, испытываемое к человеческой личности противоположного пола (если только речь идет не о мании обладания), есть вожделение полноты жизни. Именно эта полнота обещается и достигается во взаимной эротической жажде.