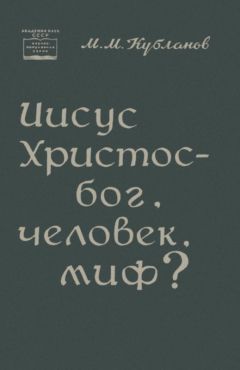Всюду по всякому поводу происходят «чудесные» явления.
Появление кометы при Нероне означало, по мнению Тацита, новые казни. Сильные молнии — близкие бедствия. Император Август, державший в узде огромную империю, остерегался отправляться в путь на другой день после ундин или начинать серьезное дело в ноны — седьмой или пятый день месяца. Он был уверен, что если утром ему случайно одевали башмак не на ту ногу, это предвещало нечто недоброе.
Вера в чудеса была настолько распространена, что трезвый и скептический император Веспасиан сам, по словам Тацита, выступил в роли чудотворца, «вернув» зрение слепцу посредством своей царственной слюны и вдохнув силу в безжизненную руку калеки[92],— чудеса, подобные евангельским деяниям Христа. А некий еврей Элеазар на глазах у множества людей повторил другое чудо евангельского Христа и даже превысил его: он изгнал бесов не из двух бесноватых, а из всех, кто только был одержим бесами. Это случилось услышать историку Иосифу Флавию[93].
Чрезвычайно впечатляющие зарисовки состояния умов своих современников в Вифинии, Галатии, Фракии, Греции и самом Риме оставил нам Лукиан. Он был приверженцем Эпикура и потому одинаково скептически относился и к греко-римским религиозным верованиям, и к завоевывающему в его время позиции христианству. Этот, по выражению Энгельса, Вольтер классической древности побуждал своих современников смеясь расставаться с верованиями прошлого и столь же иронически принимать религиозные представления настоящего.
Перед глазами читателя проходит плеяда экзальтированных «пророков» и ловких обманщиков. Один из них, лжепророк Александр, сообразив, что «человеческая жизнь находится во власти двух величайших владык — надежды и страха», начинает эксплуатировать простаков, мечущихся между этими двумя началами. Он выдает себя за сына бога-целителя Асклепия. Несколько ловко поставленных театрализованных фокусов со змеями производят громадное впечатление на доверчивых и невежественных сограждан. «Иногда, — пишет Лукиан, — он изображал из себя одержимого, и из его рта выступала пена, чего он легко достигал, пожевав корень красильного растения струтия… На рассвете Александр выбежал на площадь обнаженным, прикрыв свою наготу лишь золотым поясом, держа в руках кривой нож и потрясая развевающимися волосами… Он взобрался на какой-то высокий алтарь и стал произносить речь, поздравляя город со скорым приходом нового бога. Присутствующие— а сбежался почти весь город, с женщинами, старцами и детьми — были поражены, молились и падали ниц. Александр произносил какие-то непонятные слова, вроде еврейских или финикийских, причем привел всех в изумление, так как они ничего не понимали в его речи, кроме имени Аполлона и Асклепия, которых он все время упоминал»[94].
Поклонение змею Асклепия. Берлинский музей.
Так город, переполненный, по выражению автора, «людьми, лишенными мозгов и рассудка», уверовал, будто в нем поселился бог, и каждый жарко молился, прося у него богатств, изобилия, здоровья и прочих благ. Вскоре здесь был воздвигнут храм, возник оракул и далеко распространился слух о творящихся в храме чудесах: бог Асклепий через своего новоявленного пророка указывал местонахождение беглых рабов, помогал находить грабителей, искать клады и ее только исцелял больных, но даже воскресил несколько умерших. Чем не евангельское чудо!
Религиозный угар, опьянение, особую склонность к необычным, «чудесным» ситуациям, к мистике и беспредельное легковерие экзальтированной толпы запечатлел Лукиан и в другом рассказе, где главным действующим лицом оказывается уже не «языческий» пророк, а христианский чудотворец.
Здесь действует историческое лицо, бродячий философ Перегрин, личность, довольно типическая для времени формирования христианства. Приверженность к экзальтации, к необыкновенному, одержимость заставляют его несколько раз менять свои религиозные привязанности. При этом он выступает не как один из паствы, а как пастырь и у христиан и у язычников. Лукиан дает его внешний облик: закутанный в плащ, с ниспадающими длинными волосами, с сумой через плечо и суковатой палкой в руках он являл вид трагический для суеверной толпы, на иждивении которой он находится во время своих скитаний. Вероятно, Лукиан сгущает краски, наделяя Перегрина множеством личных пороков, но в целом обстановка передана верно. Перегрин завоевывает популярность обличением и поношением местных «властей предержащих» и даже самого императора, благо тот, добавляет автор, имея в виду Антонина Пия или Марка Аврелия, «очень кротон и не обидчив». Когда, наконец, раздраженные власти изгоняют его из города или сажают в тюрьму, это служит только к возвеличению его славы. «За свое безумие, — говорит Лукиан, — он пользовался уважением со стороны необразованных людей… у всех на устах было имя философа, изгнанного за свободоречие и беззаветную правдивость»[95].
Примкнув к христианам, Перегрин вскоре сделался у них видным деятелем — пророком, главой общины, руководителем собраний. Он не только истолковывал ходившие у христиан «священные книги», но и сам, как утверждает Лукиан, сочинял некоторые из них.
Когда христиане за какой-то проступок перестали допускать его в свое общество, он отправился в Египет, где, иронически замечает автор, «стал заниматься удивительными упражнениями в добродетели: обрил половину головы, мазал лицо грязью… кроме того, проделывал еще множество других, еще более нелепых вещей»[96].
Последний аккорд этой колоритной биографии — театрализованное самосожжение Перегрина, хорошо передает дух эпохи. Падкая до чудес толпа верит абсолютно всему, и росказни, присочиненные в насмешку над легковерием самим Лукианом, совершив круг, возвращаются к нему уже в качестве непреложных истин.
«…Я рассказывал, — сообщает Лукиан, — а они ставили вопросы и старались обо всем точно узнать. Когда мне попадался человек толковый, я излагал рассказ о событии, как и тебе теперь (т. е. правдиво. — М. К.); передавая же людям простоватым и слушающим развеся уши, я присочинял кое-что от себя; я сообщил, что. когда загорелся костер и туда бросился Протей, сначала возникло сильное землетрясение, сопровождаемое подземным гулом, затем из середины пламени взвился коршун и, поднявшись в поднебесье, громким человеческим голосом произнес слова: „Покидаю юдоль, возношусь на Олимп!“ Слушатели мои изумлялись и в страхе молились Перегрину и спрашивали меня, на восток или на запад полетел коршун. Я отвечал им, что мне попадало на ум.
Вернувшись в собрание, я подошел к одному седому человеку, который вполне внушал к себе доверие своей почтенной бородой и осанкой. Он рассказывал все, что с Протеем приключилось, и добавил, что он после сожжения видел его в белом одеянии и только что оставил его радостно расхаживающим в „Семигласном портике“, в венке из священной маслины на голове. Затем ко всему сказанному он прибавил еще и коршуна, клятвенно уверяя, что он сам видел, как тот вылетел из костра, хотя я сам только несколько времени тому назад пустил летать эту птицу в насмешку над людьми глупыми и простодушными»[97].
В картине, нарисованной Лукианом, хорошо чувствуется обстановка, в которой возникали евангельские сказания о смерти и воскресении Иисуса Христа и о сопровождавших их чудесах и знамениях. «Это было время, — писал Энгельс, — когда даже в Риме и Греции, а еще гораздо более в Малой Азии, Сирии и Египте абсолютно некритическая смесь грубейших суеверий самых различных народов безоговорочно принималась на веру и дополнялась благочестивым обманом и прямым шарлатанством; время, когда первостепенную роль играли чудеса, экстазы, видения, заклинания духов, прорицания будущего, алхимия, каббала и прочая мистическая колдовская чепуха. Такова была атмосфера, в которой возникло первоначальное христианство»[98].
Глава шестая. Проблема «Христа» до Христа
Проблема «Христа» до Христа — это, в общем, проблема земных корней христианства, происхождения его образов, сказаний, обрядности. Для догматического богословия сама постановка такого вопроса еретична. Христианство для него — результат божественного откровения, «божьего глагола». Оно беспрецедентно и уникально. Оно «выработано» на небесах. Люди получили его в готовом виде, через воплотившегося в Иисусе бога. Причем это относится не только к вероучению, но и к организации. Церковь — тело Христово. Это своего рода материальное выражение духоносного учения. И оно, разумеется, не творение людей.
Следует, однако, заметить, что эти положения вызывали сомнения даже на заре истории христианства. Уже тогда было обращено внимание на многие совпадения обрядности, ритуалов и некоторых идей этой новой религии с дохристианскими. В этом отношении наиболее яркие примеры дает митраизм; его сходство со многими элементами христианства просто поразительно. Так, в мифах о Митре говорится, что он — сын верховного бога неба, что он родился в пещере, что узнавшие об этом пастухи пришли приветствовать его и принесли дары. Когда он вырос, он совершил различные чудеса, спасшие мир. Впоследствии Митра, собрав своих учеников на последнюю вечерю, вкушал с ними хлеб и вино. Затем, вознесшись на небо к своему отцу, сделался посредником между богом и людьми.