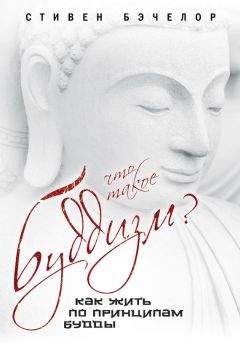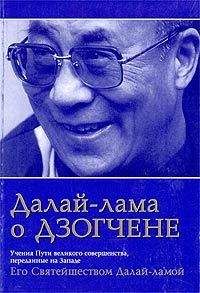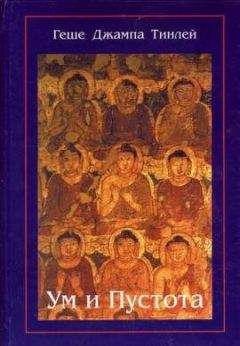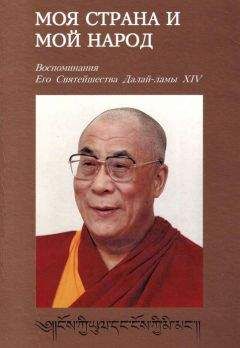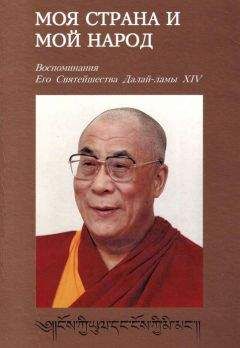Постановка вопроса означает, что вы чего-то не знаете. Спрашивая: «Кто наставник?», – вы не знаете, кто является наставником. Спрашивая: «Что это?», – вы не знаете, что это. Поэтому развивать сомнение означает ценить незнание. Сказать: «Я не знаю», – не выказывает вашей слабости или невежества, а показывает вашу честность: честное признание границ человеческой ситуации, когда сталкиваешься с «великим вопросом жизни и смерти». Этот глубокий агностицизм больше, чем простой отказ обычного агностицизма высказываться о том, существует ли Бог или переживает ли разум телесную смерть. Это – готовность принять фундаментальное замешательство конечного, подверженного изменениям создания за основание такой жизни, которая больше не цепляется за уверенность, приносящую видимость утешения.
К тому времени, как я прилетел в Корею, я уже понял, что одна-единственная форма азиатского буддизма вряд ли будет эффективным лечением специфических болезней постхристианского секулярного экзистенциалиста конца двадцатого века, каким был я сам. Вынеся этот урок из своего болезненного разочарования в тибетском буддизме, я боялся повторить те же самые ошибки в отношении корейского дзэна. Я посещал занятия без страсти к буквальному толкованию, которая была характерна для моего первоначального очарования тибетской традицией. Я держался на почтительном расстоянии от ортодоксального корейского дзэна, сохраняя ироническую дистанцию. Я воплощал в жизнь инструкции Кусана Сынима, но в известном смысле я переписывал их согласно моим собственным интересам и потребностям.
К моему удивлению, Кусан Сыним был как две капли воды похож на геше Рабтена. Несмотря на их в значительной степени несовместимые версии буддизма, они были похожи во многом другом. Оба происходили из скромной сельской среды и добились благодаря собственным усилиям высокого статуса, в общем и целом соответствующего епископскому сану в христианской церкви. Они были консервативны, преданы делу сохранения и передачи того, что они сами получили от своих учителей в непрерывной линии передачи учения. Они были убеждены в исключительной истинности только своих подходов к реальности и совершенно не испытывали никакого интереса к любым другим. Наконец, они воплощали постоянство, нравственную цельность и благородство, которые посрамляли меня. У меня, конечно, были свои разногласия с геше Рабтеном, но они никак не умаляли моего уважения к нему. И когда я не мог принять что-то в учении Кусана Сынима, это тоже не затрагивало уважения к его личности.
В октябре 1980 года я написал своему другу Алану Уолласу, тоже монаху из Тхарпа Чолинг: «Если все пойдет по плану и мир не рухнет следующей весной, я отправлюсь в Корею, чтобы еще сильнее обострить свое смятение, пытаясь ответить на некоторые весьма нелогичные вопросы. Иногда это рискованное предприятие кажется мне чем-то вроде коана. Только меня преследует опасение, что там мне будет невероятно скучно. Ну, посмотрим; в любом случае, я удовлетворю свое любопытство». Но, как впоследствии оказалось, мне совершенно не было скучно, а мое любопытство не только не было удовлетворено, а, напротив, только росло. Я чувствовал себя, как дома, на этом далеком полуострове.
Признаюсь, мой «дзэн» был той еще мешаниной. Основой была практика внимательности, объектом которой являлись дыхание и все тело и которую Кусан Сыним считал не менее бессмысленной, чем наблюдение за дыханием трупа. Вопрос «Что это?» во многом напоминал мне хайдеггеровский Seinsfrage – забытый «вопрос о бытии», а также его проницательное замечание в конце Вопроса о технике о том, что «вопрошание есть благочестие мысли». И при этом я не забывал того, что узнал из философии мадхьямаки от своих тибетских учителей: что пустота есть ненаходимость вещей, которая достигается путём поиска «предельного вопрошания» их природы. Поэтому каждый раз, когда я спрашивал: «Что это?», эхом отзывались и эти ассоциации. В ходе семи трехмесячных ретритов у меня не было ни оглушительных проникновений, ни крупных достижений, которыми славится дзэн. До моего приезда в Корею меня не интересовали подобные вещи. Меня больше заботило желание обострить свое переживание абсолютной таинственности жизни так, чтобы оно пронизывало каждый момент моего существования. И, таким образом, эти переживания постепенно становились бы основанием, на котором можно строить откровенные и жизненные ответы на все, что бы ни встречалось на моем пути.
У меня были трудности с большей частью философии, лежащей в основе учения Кусана Сынима. Я противился его пониманию, что «это» вопроса «Что это?» обозначало трансцендентный Ум, который он также называл «Хозяином тела». Когда я обратился к китайскому тексту, в котором впервые появляется вопрос «Что это?», в нем не было упоминания об Уме или Хозяине тела, в нем просто говорилось: «Что это за вещь и как она здесь появилась?» Мне понравилась откровенная приземленность «вещи», так как она давала почву метафизическим усложнениям. Но вот как объяснил Кусан Сыним то, чем мы занимались: «Цель дзэнской медитации состоит в том, чтобы осознать Ум. Существует Хозяин, который управляет этим телом и который не есть ни обозначение «ум», ни Будда, ни материальная вещь, ни пустое пространство. С отрицаянием этих четырех возможностей возникает вопрос, чем является этот Хозяин в действительности. Если вы продолжите спрашивать таким образом, то вопрошание станет более интенсивным. Наконец, когда эта масса вопросов приближается к критической точке, она внезапно разорвется. Вся вселенная будет разрушена, и только ваша первоначальная природа появится перед вами. Так вы пробудитесь».
Опять передо мной появился призрак развоплощенного духа. Логика доводов Кусана Сынима не могла меня убедить. Она основывалась на посылке, что существует «нечто» (то есть Ум), управляющее телом, которое нельзя описать понятийно и ни на каком языке. В то же самое время это «нечто» было также моей истинной природой, моей сутью прежде моего рождения, которая каким-то образом вдыхала в меня жизнь. Это было подозрительно похоже на мировую душу (Атман/Бог) индийской традиции, которую отвергал Будда. Я не мог примирить любовь дзэн-буддизма к снегу на бамбуке, к кипарисовым деревьям во внутреннем дворе или к звуку бульк! от прыжка лягушки в пруд с мистическим опытом трансцендентного Ума, который открывается, когда «разрушается» вселенная бамбука, кипарисов и лягушек. Так как Ум невообразим, Кусан Сыним говорил нам, чтобы мы оставили попытки дать любые определения тому, о чем мы спрашиваем «Что есть это?» Поскольку как у непробужденных существ у нас не могло быть ни малейшего представления о том, что это. Тогда я задавался вопросом, а что изменится, если спросить: «Что есть лыдвлаоф?» [What is ksldkfja?]
Несмотря на постоянный акцент на вопрошании и сомнении, меня снова подталкивали к тому, чтобы достичь такого проникновения, которое будет подтверждать заранее предрешенные ортодоксальные ответы. Как ни странно, ортодоксальные представления корейского дзэна, в свою очередь восходящие непосредственно к идеалистической школе «Только сознание» (Читтаматра) индийского буддизма, мои тибетские учителя изо всех сил старались опровергнуть своей доктриной пустоты срединного пути (мадхьямаки). Я оказался в любопытной позиции: я практиковал медитативные практики школы, философию которой я отвергал, принимая философию школы, медитативные практики которой я отвергал....
Я оказался в любопытной позиции: я практиковал медитативные практики школы, философию которой я отвергал, принимая философию школы, медитативные практики которой я отвергал
Буддизм пришел в Корею из Китая в четвертом веке н. э. Проживание в Сунгвангса впервые дало мне представление о том, на что похожа практика Дхармы в стране, где буддизм существовал уже долгое время. До этого я жил или в тибетских общинах беженцев в Индии (стране, где буддизм не существовал уже в течение тысячи лет), или в Швейцарии и Германии, где буддизм только начал приживаться.
Корейцы постригались в буддийские монахи в силу разных причин. Многие или не хотели или не могли соответствовать требованиям консервативного конфуцианского общества с возрастающими материалистическими запросами. Но лишь немногих привлекали проходящие дважды в год интенсивные дзэнские ретриты. Большинство исполняло административные и церемониальные обязанности, ухаживало за монастырскими полями, отвечало за строительные проекты, выполняло пастырскую работу, управляло небольшими храмами или разбиралось в хитросплетениях интриг в главном храме Чоге в Сеуле. Храмовая община была срезом корейского общества: от молодых сирот до хрупких монахов девяноста лет, от интеллектуалов до бывших владельцев магазинов, от недовольных подростков до профессиональных духовных лиц. Раньше я знакомился с буддизмом только в среде изгнанных тибетцев и белых молодых маргиналов, выходцев из среднего класса; а теперь я видел, как Дхарма, снятая с духовного пьедестала, формировала жизни людей из разных слоев общества и с совершенно разными нуждами и интересами.