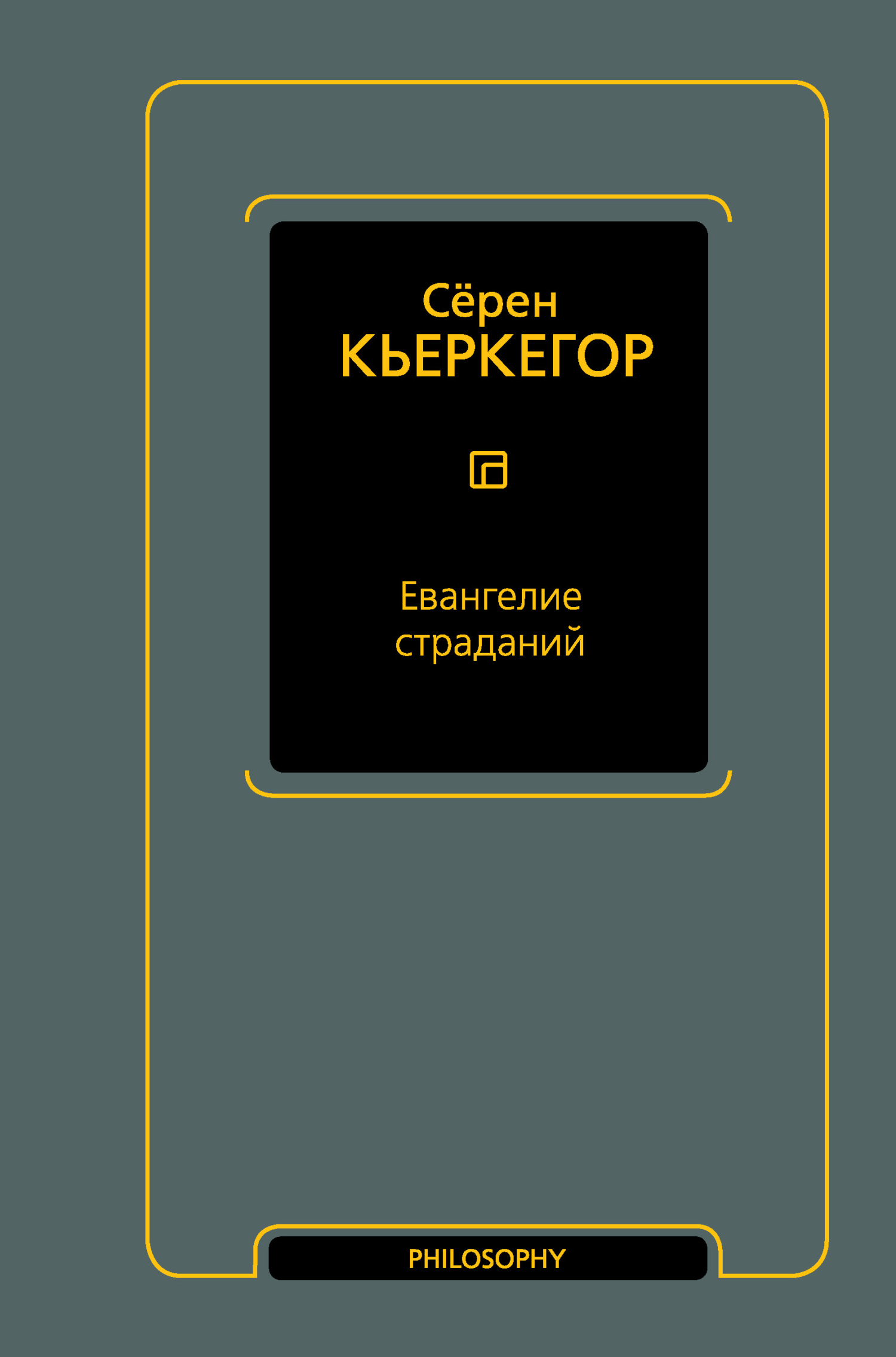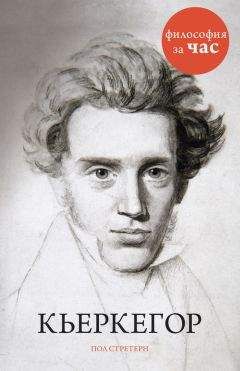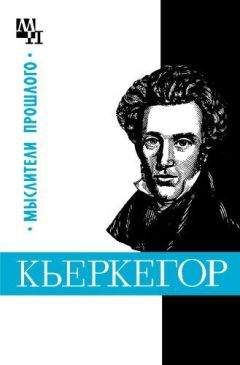себя самого и не желает быть таким, как прочие люди [83], он знает, что тот, кто хочет себя сохранить, должен трудиться и во многом отказывать себе, но знает также, что он – победитель в этой борьбе, что
он-то разумеет ту справедливость, что царит на небесах, – ведь он кажется себе праведным. Но вот с небес на него смотрит любовь, и гляди-ка! – он, утешавший себя мыслью, что он умеет воздавать каждому свое: человеку человеческое, Богу Божие, – он, кто уже в этой жизни радовался тому, что сумеет дать отчет на Суде, теперь видит в себе такое множество грехов, что ему не ответить и за тысячную их часть. Ведь любовь не просто в мгновение ока открыла сокрытое, она как будто умножила грехи и в будущем. То, что он в гордой вере в себя легко преодолевал, теперь оказывается для него трудным, потому что его душа уязвлена любовью. Там, где он раньше и не подозревал никакого соблазна, теперь он видит опасную западню, и он чувствует страх и трепет, которые прежде были не знакомы ему. И в том, что это открылось ему в свете истины, он легко убеждается; ведь лишь пожелай он вновь предаться своей собственной праведности, как искушение тут же исчезло бы.
Но тогда возможно ли, чтобы та же сила, что открывает человеку глаза на множество своих грехов; та же сила, которая, уязвляя сердце любовью, едва ли не умножает в человеке грехи; чтобы та же самая сила была способна покрывать грехи в этом же человеке? И разве не лучше было бы, если бы этого она не могла? Ведь чем тогда оказывается любовь? Ночным сном, в который впадает человек? Дурманом, заставляющим все забыть? И если любовь в этом смысле покрывала бы множество грехов, разве это было бы чем-то достойным? Тогда уж лучше было бы сохранить легкость юности, или самоиспытание мужа, или человеческую самоправедность. Почему и мудрость, и рассудительность, и сердечный мир, и небесное блаженство, и самая жизнь должны обретаться в муках рождения, а любовь не должна знать никаких мук рождения? Но ведь любовь – не сон, и если даже говорить о ней в этом ключе, то следовало бы сказать: ее первая мука рождения – это беспокойный, исполненный страха сон, за которым следует блаженное пробуждение в любви, покрывающей множество грехов. Ведь любовь забирает все. Она забирает у человека совершенство, и если он поскупится его отдать, любовь покажется ему жестокой; но она забирает и его несовершенство, его грех, его беспокойство. Она забирает у человека силу; но и его скорбь. Да и какую самую страшную скорбь не покроет любовь, словно не бывшую, оставляя лишь радость любви о спасении ближнего? Забирая нечто, она тем самым это и покрывает; и забирая все, она все покрывает; когда же она, забирая все, еще и дает нечто иное, она не мерой покрывает все. Людям часто кажется, будто не одна только любовь способна забрать и тем самым покрыть то, что им хотелось бы иметь покрытым. Однако уже древний язычник [84] сказал: человеку не ускакать верхом от того, что его гнетет и заботит, ведь черная Забота поедет у него за спиной. Эти слова часто повторяют, находя в них глубокое знание человеческого сердца. И все же, если бы древний язычник, ехавший по жизни с черной Заботой за спиной, не имел бы нужды оглядываться! – но ведь любовь как раз не оглядывается. Да и где бы очи, которые любят, взяли время на то, чтобы озираться назад, – ведь для этого им пришлось бы на мгновение отвернуться от любимого! Где бы уши, которые любят, взяли время на то, чтобы слышать жалобу, – ведь для этого им пришлось бы на мгновение перестать слышать любимый голос! И если очи косятся назад, а уши подслушивают, значит, сердце мелочно, но это – не вина любви, да она и гневается на это. Тот, кто полагается на свое совершенство, тот не любит; и тот, кто вступает в сговор со своим несовершенством, тот не любит. Если человек полагает себя столь несовершенным, что считает, будто любовь для него исключена, это говорит о том, что он не любит, ведь он оценивает свое несовершенство и берет его в расчет точно так же, как тот, кто надеется на свое совершенство. А любовь забирает все. И тот, кто все сохраняет при себе, тот или желает радоваться о самом себе и не желает радоваться о любви, или желает печалиться о самом себе и не желает радоваться о любви.
Но для того, чтобы любить человека такой любовью, нужно иметь мужество желать любить. При этом земной любви присуща тайна, и эта тайна в том, что она несет на себе печать любви к Богу, без которой она стала бы нелепостью или же пошлым заискиванием: ведь как мог бы один человек быть столь совершенен в глазах другого, чтобы это пробудило в последнем благоговейный трепет или было в силах забрать поистине все. Чтобы любить так Бога, нужно смиренное и свободное мужество; ведь любовь к Богу в груди всякого человека пробуждается, плача, словно новорожденный ребенок, а не с улыбкой ребенка, уже узнающего свою мать. И когда затем эта любовь к Богу желает держаться Господа крепко, враг страшно ополчается на нее, и сила греха бывает ужасна. Но любовь не смежает очей в час опасности, она выходит ей навстречу, чтобы, как говорит старинный сочинитель псалмов [85], пройти
Через стрелы греха
В покой рая.
И чем дальше от нее это множество стрел, тем ужасней оно, но любовь пробивается через них, и вот она видит все меньше стрел, пока, наконец, все они не вонзятся в ее грудь, и она, уязвленная ими, но уже их не видя, не вступит в блаженство рая, где царит лишь любовь.
Когда Иисус однажды сидел за столом с фарисеями, в дом вошла женщина. Ее туда никто не приглашал – еще бы, ведь фарисеи знали, что она грешница. И даже если ничто иное не могло напугать и остановить ее, то гордое презрение фарисеев, их молчаливое негодование, их праведный гнев могли бы, пожалуй, ее устрашить; но она, «став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром». Здесь было страшное мгновение; все то, отчего она одиноко страдала, ее боль и укоры самой себе в ее груди стали