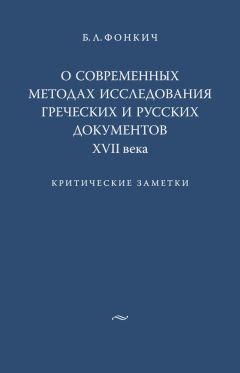Так происходило дело с древних времен до императора Юлиана Отступника, тысячу с лишком лет: как мог так долго держаться обман среди умнейшего народа древности? Именно тем, что никакого обмана здесь не было; была, если угодно, иллюзия. Случаи явного предсказания будущего — и Эдипу, и Крезу — относятся к области легенд; в историческое время Дельфы были обителью доброго совета о том, как поступить, чтобы было «лучше»; это «лучше» (ameinon) вообще — лозунг дельфийского бога. Понятно, что в этой форме ответ бога был неопровержим: даже в случае неудачи нельзя было утверждать, что при неисполнении данного совета не вышло бы еще хуже. Все же, вопросив бога, верующий чувствовал себя бодрее, самоувереннее — а бодрость и самоуверенность всегда лишний шанс успеха.
Переходим к гаданиям; мы коснемся лишь двух самых торжественных способов — гадания по полету птиц и по жертвам. Первое имело своим основанием веру, что боги, и в частности Зевс, обитают в горних; птицы, и притом хищные, — только по ним и гадали — ближе всех к ним подлетали и поэтому могли считаться их вестницами. Конечно, наблюдать их можно было не везде: птицегадатели имели свои вышки, с которых они следили не только за полетом орлов, но и за их клекотом, за их обращением друг с другом и с прочими птицами или животными (особенно змеями) и т. п.; усмотренные явления затем подвергались истолкованию.
Во время жертвоприношения человек вступает в непосредственное общение с богом; понятно, что он в различных признаках, сопровождающих его, старается угадать волю того, кому жертва приносилась. Эти признаки были двойные: одни касались самого горения жертвенного огня, другие состава и формы внутренностей принесенного в жертву животного, особенно рисунка жил его печени. Конечно, и это все должно было быть искусно разгадано. Гадание этого рода было особенно в ходу перед сражениями, чтобы узнать, благословляет ли бог данный момент, или же «лучше» будет подождать. Поэтому полководцы обыкновенно имели при себе гадателей; все же нас наводят на размышления слова Лахета у Платона, что "гадатель должен быть во власти полководца, а не полководец во власти гадателя".
В последние столетия жизни древнего мира — позднее той эпохи расцвета, которую имеем в виду мы — возник и развился особый вид гадания, затмивший все остальные и перешедший, несмотря на все протесты церкви, даже в христианство; это была астрология. Ее элементы Греция получила уже в III в. до Р.Х. из Вавилона через ученого жреца Ваала, Бероса; но ее превращение в мудреную систему было уже ее собственным делом.
§ 37
Практика невзыскательна; средний эллин обычно прибегал к мантике, не особенно углубляясь в ее научные предпосылки; он обращался к богам с такой же доверчивостью, с какой дети обращаются за советом к родителям.
Но для мышления мантика представляла мучительную загадку — и притом не для одного только философского.
Конечно, боги любят нас и поэтому предостерегают, обращаемся ли мы к ним или нет; прекрасно. Но какой же смысл имеет при этом избегание дурной приметы? Вы отправляетесь в путь — и притом не прощаетесь с дорогим вам человеком из боязни, что он будет плакать, и его слезы навлекут на вас несчастье. Вы приехали на повозке — и, сильный, здоровый человек, зовете слуг помочь вам сойти, чтобы, упаси бог, не оступиться и этим не приворожить беду. Какой тут смысл? Быть может, бог желает вам послать примету, чтобы вас предостеречь, а вы ему мешаете!
Конечно, это бессмысленно; ну, а мы зачем избегаем подавать гостю руку через порог и садиться тринадцатым к столу? Очевидно, здесь произошел сдвиг: примета-вещание и примета-предостережение превратилась в примету-ворожбу. В этом убедиться нетрудно даже верующему в ведовство. Он убеждается — и все-таки по возможности избегает дурных примет: как-никак, а неприятно.
И, конечно, боги знают все… что это значит, все? Прошедшее — пусть; Демарат спрашивает дельфийского бога, кто был его отцом, это понятно. Настоящее — пусть: я могу спросить того же бога, где ныне находится мой беглый раб, это тоже понятно. Но будущее? — Посмотрим. Ведь будущее зависит между прочим и от того, так или иначе я поступлю; кто говорит: "Бог знает будущее", — тот этим самым говорит мне: "Бог Знает, как ты поступишь". Но если так, то это значит, что мои действия предопределены: это значит, что свободной воли не существует.
А между тем свобода воли — основной постулат всего греческого мышления, всей греческой морали. Как же быть?
Более древняя эпоха нашла себе исход в молчаливой теории, которую я назвал "обусловленным фатализмом". Да, моя воля свободна, но она ведь — лишь один из моментов, влияющих на будущее; выделим же его. Пусть ответ бога будет условным: "если Лаий родит сына, он будет им убит"; "если Крез перейдет Галис, он разрушит великое царство". — Ну, а если нет, тогда, конечно, нет. В поэзии это очень красиво, но более обстоятельное и глубокое размышление подскажет нам, что эта теория годится только для Робинзонов. Для живущего среди других людей человека будущее обусловлено не только его волей, но и волей всех окружающих его, и ответ бога, поэтому, должен быть обставлен таким множеством условий, которое лишит его всякой ценности.
В серьезной философии мы поэтому и не встречаемся с обусловленным фатализмом. Там вопрос о ведовстве непосредственно связан с вопросом о божьем промысле; и поэтому понятно, что положительно к ведовству относится ревнительница промысла Стоя, имея против себя не только школу Эпикура, но и скептиков Новой Академии. Книги Цицерона о «ведовстве», столь важные для вольтерьянства XVIII в., дают нам отголоски этого интересного спора.
Мы здесь займемся только положительным отношением к делу, т. е. учением Стои. Если бы ведовства не было, то это значило бы, что боги или не знают будущего, или не желают нам его сообщить, потому ли, что не заботятся о нас, или же потому, что считают его знание для нас бесполезным. Первое предположение противоречит представлению о всезнании божества, второе — о его всеблагости, третье — здравому смыслу. Такова знаменитая трилемма Стои, воскресшая в оптимизме Лейбница.
Будем откровенны: два последних пункта неопровержимы. Да, даже третий. Будет простой придиркой, если мы возразим, что часто знание будущего вредно для человека; несомненно, что часто оно и полезно, а этого для Стои вполне достаточно.
Единственный слабый пункт в ее трилемме, это первый, и мы уже знаем почему. Знание богом будущего предполагает его предопределение, а предопределение исключает свободу воли.
…Исключает ли? Детерминизм и индетерминизм: антиномия Канта.
Стоя не углублялась в эти дебри; она искала исхода в другом направлении. Различала «рок», "судьбу", «случайность»; писала длинные трактаты "о возможности". Вообще, видимость брала свое, сводя мало-помалу свободу человеческой воли к добровольному следованию року. Ибо
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
Таков герой «Энеиды» Вергилия, принципиально отличный от героев свободной воли, изображенных в древней и новой трагедии, и поэтому принципиально непонятный для плоской критики современности, особенно немецкой — Буассье, тот его понял. На его челе запечатлен только что приведенный лозунг, осеняя его трагической грустью. И тот же отпечаток грусти мы находим и на челе других великих стоиков империи — Сенеки, Эпиктета, императора Марка Аврелия. Оно и понятно: кто заглядывал в вещую бездну Трофония, говорили древние, тот уже не смеялся никогда.
Преклонимся перед ними — и вернемся душой к тем, которые, не вникая в метафизические загадки, просто чувствовали над собой участливый взор любящего божества и отвечали ему сыновней благодарностью. Таков Тесей в «Просительницах» Еврипида:
Хвала тому бессмертному, который,
Над дикостью звериной нас подняв,
Дал разум нам и голос окрылил
Осмысленною речью; кто от стужи
Нам дал оплот и от жары небесной;
Кто нам ладью морскую даровал,
Чтоб меною взаимной доставляла
Нам то, в чем наш нуждается народ;
Кто пред завесой будущего темной
Пророков достоверных вдохновил,
Чтоб по приметам огненных разгаров,
Иль по узору жертвенных частей,
Иль по полету вещунов пернатых
Грядущий рок истолковали нам.
§ 38
"В боге истина" — это одна сторона интересующей нас здесь догмы, если так угодно назвать ее. "В истине бог" — это другая. И здесь уже не придется говорить о красивом пустоцвете, возникшем на древе греческой религии, а о могучей и цветущей ветви, давшей и дающей поныне много прекрасных плодов.
От бога и во славу бога всякое искусство — ибо бог объявляется в красоте. От бога и во славу бога всякая наука — ибо бог объявляется в истине. Певцы были первыми учителями Греции; Муза их не только вдохновляла, но и сообщала им те знания, которые они передавали людям. Если бы нам была сохранена вся богатая дидактическая поэзия школы Гесиода в VIII–VI вв., мы могли бы подтвердить сказанное здесь многочисленными прямыми свидетельствами; но и те косвенные заключения, которыми мы вынуждены ограничиться, вполне надежны. И если сама Муза, как мы это видели, до последних времен удержала свое место в школе грамоты, то это было лишь онтогенетическим выражением ее давнишней филогенической роли.