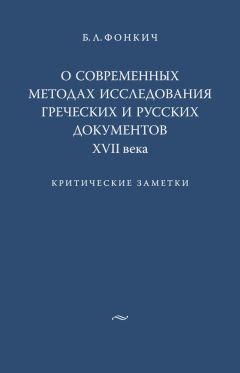Царица гор, ключ жизни вечный, Зевеса матерь самого
Софокл
Одному русскому поэту почти что удалось возвыситься до этого сознания; это был Лермонтов в его известном, прекрасном стихотворении "Когда волнуется желтеющая нива"… Но и он остановился на полпути. Остановку я чувствую в последнем стихе:
Здесь сказалась отрава, внесенная иудаизмом в христианство и через него в души потомков эллинизма. Почему в «небесах»? Разве там "волнуется желтеющая нива"? Да, конечно, ветхозаветная религия насильственно отвлекает ваше естественное чувство благодарности от того, что вас непосредственно ласкает и холит, к предположенному творцу:
"Кто шествует по дороге, и «повторяет» (Закон), и прерывает это повторение, и говорит: "Как прекрасно это дерево", — тому Писание вменяет это в вину, лишающую его права на жизнь" (Пиркэ Абот).
Древний эллин был счастливее; для него этот расхолаживающий обход не был нужен, он чувствовал и видел бога в ней самой, в желтеющей ниве, в душистой роще, в наливающейся благодати плодового сада. Он окружил себя и свою человеческую жизнь целым сонмом природных божеств, то ласковых, то грозных, но всегда участливых. И, что важнее, он сумел вступить в душевное общение с этими божествами, преломить их жизнь в своем сознании и влить в них живое понимание себя. К нему фаустовский Нострадамус не обратился бы с укоризненными словами:
Мир не закрыт духов природы —
Ты слеп умом, ты мертв душой.
После крушения античного мира и это осчастливливающее сознание исчезло из человеческой души, хотя и не совсем: древнехристианские религии сохранили его зародыши, и у лучших представителей этих религий они дали и довольно яркие плоды, как у того Франциска Ассизского, когда ему через пелену иудаизма открылась истинная, античная подпочва христианства… Вернемся, однако, к эллину.
Из недр земли, из расщелины скалы бьет прохладный родник, распространяя зеленую жизнь кругом себя, утоляя жажду стада и их владельца: это — богиня, нимфа, наяда. Воздадим ей лаской за ласку, покроем навесом ее струю, высечем бассейн под ней, чтобы она могла любоваться на его зеркальной глади своим божественным обликом. И не забудем в положенные дни бросить ей венок из полевых цветов, обагрить кровью закланного в ее честь ягненка ее светлые воды. Зато, если мы в минуту сомнения и душевной муки придем к ней, склоним свое ухо к ее журчанию — и она вспомнит о нас и шепнет нам спасительный совет или слово утешения. А если то место, где она струит свои ясные воды, удобно для человеческого селения — здесь может возникнуть и город, и будет ей всенародная честь, всеэллинская слава. Такова Каллирроя в Афинах, Дирцея в Фивах, Пирена в Коринфе. Будут каждое утро сходиться к храму наяды городские девушки, чтобы наполнить ее водой свои кувшины и потешить ее участливый слух своей девичьей болтовней, и будут граждане в ее очищающих струях омывать своих новорожденных детей.
Течет ручей, соединяется с другим ручьем, образует реку; тут представление ласки уступает уже место другому представлению — силе. Правда, больших рек Греция не знает, самых крупных из них — Пенея, Ахелоя, Алфея, Еврота — не сравнить даже с нашими Мстой или Мологой. Но все же в половодие и они могут произвести немало опустошений, бросаясь на пажити и посевы, ломая встречные деревья со стремительным напором разъяренного быка. Их и представляли, поэтому, в виде быков или полубыков. Но все же их гнев был редким явлением, вызываемым обыкновенно нечестием граждан, творящих кривой суд у себя на городской площади, прогоняющих Правду со своих сходов; в другое время это — благодетельные божества, орошающие своей влагой не только прилегающие луга и леса, но — благодаря отведенным каналам — и всю равнину; они поистине в малодождной Греции «кормильцы» своей страны. За это им и честь воздается. Им строят храмы на удобных местах, приносятся жертвы; они призываются в государственных молитвах, и уже обязательно мальчики, достигшие возраста эфебов, посвящают им первую срезанную прядь своих волос. Таковы, помимо вышеназванных, Кефис для Афин, Исмен для Фив, Инах для Аргоса. Будучи кормильцами всей страны, они влияют таинственным образом и на человеческий урожай — к ним обращаются бездетные родители с мольбой о потомстве. И если вам встретятся среди множества греческих имен такие, как Кефисодот, Исмений или Анаксимандр (т. е. "меандр") — вам уже нечего спрашивать, откуда родом их носители. Но речной бог не только в мирное время кормилец своих граждан, он и в военное был для них оплотом, притом не только физическим, но и религиозным. Как ни мала речушка Инах — ее буквально курица вброд перейдет — а все-таки спартанский полководец Клеомен, идя походом на Аргос, не решился переправиться через нее, когда ее бог после многих жертвоприношений не дал ему на это своего согласия.
Своим божеством живет и роща, — и притом не только как таковая, но и в лице отдельных своих деревьев. И здесь мы имеем нимф, древесных нимф, дриад; они счастливы тем, что их много: зато они в лунные ночи покидают свои деревья и сплетаются в хоровод под предводительством своей повелительницы, богини рощ Артемиды. Но божественно и одинокое дерево, если оно могуче и прекрасно — таков тот чинар на берегу афинского Илисса, под которым некогда отдыхали Сократ с Федром…
"Как он раскидист и высок, этот чинар, как высок и тенист и растущий под ним агнец; он в полном расцвете теперь, наполняя все это место благовонием. И что за чудный родник течет под чинаром! Как холодна его вода — и ногам заметно. Куколки привешены и другие приношения — видно, здесь святыня нимф или Ахелоя" (Платон).
За ласку надо платить лаской, мы это уже знаем, а это ли не ласка — прохладная тень в знойную пору, приветливый шелест подвижных листьев, пенье… если не всегда птичек, то хоть милых греческому сердцу цикад. Во всем этом чувствуется любовь; а где любовь, там и бог.
Но нимфы знают и другую любовь. Ведь роща, лес — это вечное, неустанное плодотворение, созидание той физической жизни, которой живет природа. И для эллина его нимфа — это неустанная оплодотворяемость, неустанная любовная игра с шаловливыми представителями оплодотворяющего начала леса, с сатирами, — а иногда и с тем высшим богом, который из верховного бога-творца и оплодотворителя у себя в Аркадии превратился для прочей Греции в бога-странника, ласкового и беспечного Гермеса. Это уже к смертным не относится… а впрочем, есть исключения. Бывает, что и смертный за свою красоту удостоится ласки божественной нимфы: рассказывают это между прочим про одного прекрасного пастуха, Дафниса. Не впрок пошла ему любовь богини: он осмелился изменить ей ради смертной, за что, слепец, и был наказан действительной слепотой. И когда в роще, на поляне находили младенца дивной красоты и силы — невежды терялись в догадках и сплетнях, но опытные старушки знали, что это дитя нимфы.
А там выше и выше — на Гиметте, Пентеликоне — там уже нет лесов и деревьев, туда только козы заходят щипать колючую зелень, пробивающуюся между белыми глыбами известняка. Там все чаще и чаще виднеются голые громады скал с их причудливыми выступами и пещерами. Это царство нимф-ореад, обитательниц горных пустынь. Там в пещерах они ткут свои тонкие, невидимые ткани, сопровождая песнью свою работу; никто из смертных не дерзнет их подслушать и подглядеть, но их станки можно видеть днем, войдя в их пещеру — разумеется, после надлежащей молитвы. Им приятны и другие знаки внимания — намащение елеем выступа скалы, прикрепление повязки, скромное жертвоприношение на алтаре у входа в пещеру. Они не останутся в долгу; кто же, как не они, бережет драгоценный источник, бьющий на вершине? Кто, как не они, не дает заблудиться нашей козочке среди утесов?
Впрочем, нет: тут они действительно имеют соперника. Это — гость из Аркадии, сравнительно недавно приобщенный к сонму общегреческих божеств, причудливый дух-хранитель коз, козлоногий Пан. Если мы называем его «богом», то просто потому, что мы этим именем называем всякое могучее, бессмертное существо; на деле же мы прекрасно понимаем разницу между ним и великими олимпийскими богами. Позднее дурная совесть религии, порвавшей с природой и матерью-Землей, превратила его в беса; но мы его любим и уважаем, ласкового горного бога со звонкой свирелью. Правда, мы знаем за ним и немало причуд, даже не считая тех, о которых могли бы рассказать его соседки, нимфы-ореады. В полдень он изволит почивать (это — "час Пана"), и горе тому неосторожному пастуху, который вздумал бы в это время забавляться игрой на свирели. Как высунет потревоженный свою косматую голову из-за утеса, как рявкнет на всю гору — помчатся вниз по камням испуганные козы, сбивая с ног и друг дружку и оторопевшего пастуха. Да, будет он помнить Пана и его «панический» страх!