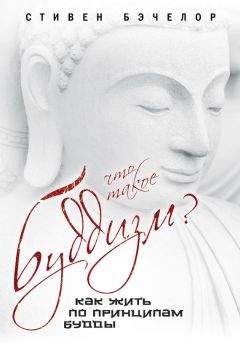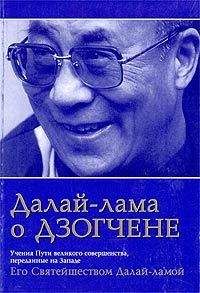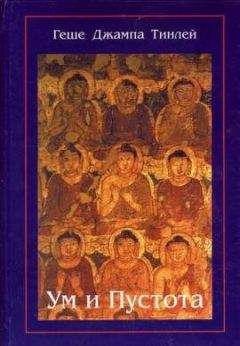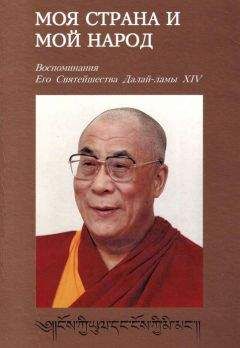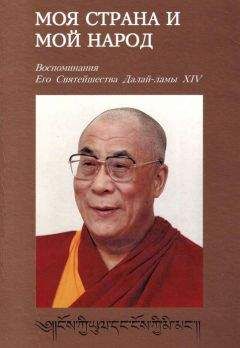Я думал о себе скорее как о путешественнике, а не простом туристе. Если бы меня спросили, что я ищу, я не нашелся бы что ответить. Я не знал даже места назначения своего пути, географического или духовного. Я просто был «в дороге» в самом анархическом и высоком смысле
Мое первое воспоминание: я сижу на коленях своей матери, уютно устроившись в складках ее шубы, и смотрю в окно самолета на миниатюрные дома и автомобили Торонто. Мне было три года. Мои родители эмигрировали из Шотландии в Канаду в 1957 году, пытаясь сохранить свой брак. Они развелись год спустя, и мы с матерью и младшим братом Дэвидом вернулись в Англию. Жили мы в Уотфорде, неприглядном пригороде на внешнем кольце Лондона. Моя мать больше не выходила замуж и воспитывала меня с братом одна. С отцом я больше никогда не общался.
Нам поначалу помогал отец моей матери, Альфред Краск, бизнесмен, у которого была фотоцинкографическая фирма в Ковент-Гардене. Альфред отвергал богобоязненную обстановку своего детства и считал все религии вздором, в то время как его жена Мэйбл – моя бабушка – была скромной дочерью местного методистского священника. Моя мать разделяла взгляды своего отца на религию и считала себя атеисткой. Эмоционально она все же была близка со своей матерью и тетей Софи, которая служила медсестрой в Дарданеллах и Фландрии, никогда не выходила замуж и искренне посещала церковь. Где-то на заднем плане маячила загадочная тень младшего брата Альфреда, Леонарда, который отказался от блестящей медицинской карьеры и молодой жены, чтобы уехать в Соединенные Штаты во имя своей любви к театру и скульптуре. В жизни Красков для него больше не было места. Потрепанная погодой бронзовая статуя танцующей нимфы под названием «Радость» в нашем саду за домом была единственным свидетельством реального существования Леонарда.
Ребенком я не посещал церковь. Я был освобожден от занятий по «Священному писанию» в школах, в которых я учился, так что я не получил базового христианского образования, которое было частью британской школьной программы. Я помню, когда мне было восемь или девять, лет меня поразила радиопередача, в которой упоминалось, как буддийские монахи избегают ходить по траве, чтобы не уничтожить каких-нибудь насекомых. Я часто задавался вопросом, было ли это первым положительным впечатлением от буддийских монахов, которое повлияло на мое будущее решение принять буддизм, или я выбрал это воспоминание, потому что ретроспективно оно помогало мне объяснить необычное решение стать буддийским монахом.
С раннего детства я редко чувствовал себя полностью счастливым. Я ощущал постоянное присутствие мелких забот в центре или на периферии моего самосознания. Я помню, как часто ночами я лежал с открытыми глазами, пытаясь остановить непрерывный поток тревожных мыслей. Меня расстраивала неспособность учителей в школе говорить о том, что казалось самым неотложным и важным для всех: загадочная, пугающая ненадежность человеческой жизни. Стандартные программы по истории, географии, математике и английскому языку, казалось, специально были разработаны так, чтобы игнорировать вопросы, которые действительно имели значение. Как только у меня появились первые смутные представления о том, что такое «философия», я удивился, почему нам ее не преподают. А мой скептицизм относительно религии только рос, когда я видел, что приходские священники и пастыри, которых я встречал в своей жизни, обретали в своей вере. Они поражали меня своим ханжеством и равнодушием или добродушным высокомерием.
В 1960-е меня, как магнитом, потянула к себе контркультура, высмеивающая и отрицающая «правильное» буржуазное общество Великобритании. В первый раз я услышал родственные голоса, которые выражали свою неудовлетворенность и надежды в тоскливых песнях о любви и свободе и в плохо напечатанных манифестах, подстрекающих к революции. А затем пришли наркотики. Гашиш и ЛСД вызывали такое интенсивное и восторженное состояние сознания, какого я никогда прежде не испытывал. Они открывали, не ту тусклую информацию, которую я получал из учебников, а, казалось, прямой портал в мерцающую, переливающуюся всеми цветами радуги игру самой жизни. Будучи скорее природным (а не космическим) хиппи, я блуждал в течение многих часов по лесам, торча на кислоте, поминутно изучая паутинки и тонкие узоры на листьях, поражаясь жуку, взбирающемуся по былинкам, а потом лежал на лугах, пристально разглядывая завихряющиеся ажурные облака.
...
Меня расстраивала неспособность учителей в школе говорить о том, что казалось самым неотложным и важным для всех: загадочная, пугающая ненадежность человеческой жизни
Моя поглощенность такими внешкольными занятиями заставляла меня все более забывать об учебе. Я, тем не менее, жадно читал: Двери восприятия Олдоса Хаксли; Степной волк, Игра в бисер и Сиддхартха Германа Гессе; Путь дзэн Алана Уотса, – балуясь Бхагавадгитой, Дао-дэ Цзин и тибетской Книгой мертвых. Я отрастил длинные волосы, носил бусы и посещал ночные рок-концерты с «жидким» светом, проходившие на полях перед Парламентским холмом, где я слушал Soft Machine, Pink Floyd и Edgar Broughton Band.
В апреле 1971 года у меня был сон во сне. Мне только что исполнилось восемнадцать, и я без энтузиазма готовился к экзаменам в средней школе. Мне снилось, что я был в лагере во Франции. Шел дождь. Когда я заснул в своей палатке, мне приснился сон. Вот что я написал об этом:
...
Сероватый ковер в бесконечной прихожей начал идти вверх, наклон становился все более крутым, вскоре появились бронзовые перила, стоящие на полированных деревянных балясинах. Чем дальше это продолжалось, тем труднее становилось, пока подъем не стал почти перпендикулярным. [Потребовались] адские усилия, чтобы забраться на вершину, но, благодаря решимости и упрямству, он сумел подняться. Там была лишь маленькая прихожая, но свет был странным – очень белым и чистым; вокруг него по всему полу стояли красивые вазы, а в углу была белая винтовая лестница, сделанная из дерева. Он [поднялся] по ней, и наверху оказалась еще одна площадка, только на этот раз свет был даже более белым и интенсивным, воздух оставался прекрасным и чистым, но начал сжимать его и подавлять.
Он вошел в комнату; там стояла кровать. Он поднял покрывало и увидел под ним девочку, она была очень юной, еще не полностью развившейся и обнаженной; ее лицо ничего не выражало, а цвет ее волос был мышиным. Он накрыл ее покрывалом и вышел из комнаты.
Он пробрался мимо восточных ваз и драгоценностей, мимо обнаженных восточных принцесс, мимо всех форм земного искушения и решил подняться на следующий этаж. Он выглядел точно так же, как и предыдущие, за исключением того, что пол был не так богато украшен. Там были три или четыре простые деревянные двери. Он вошел в одну из них, и здесь воздух был практически невыносимым, поразительно сладким и насыщенным. Воздух, казалось, был пропитан мятным ликером и обладал похожей консистенцией. Стены были окрашены очень тусклыми, но природными яркими цветами, все было немного не в фокусе и легким, а воздух, казалось, изобиловал миллионами молекул, делающих все возможное, чтобы разделиться.
Источник этой энергии постепенно открылся: одна из четырех стен начала открываться как массивная дверь, через увеличивающуюся трещину стали пробиваться лучи золотистого солнца, пока отверстие не стало приблизительно в метр шириной; затем там показался человек, по крайней мере Нечто, похожее на человека. Но это существо было удивительно высоким и оно излучало своего рода сверхъестественную силу и пылающие лучи жизни и света. Он был в ниспадающем белом платье и шафрановой накидке. Его волосы были собраны, как у Венеры Боттичелли.
По некоторым причинам, возможно потому, что я преподнес этот текст как школьное сочинение (отсюда третье лицо, «он»), я не записал того, что этот странный высокий человек сказал мне. Но с тех пор его слова, как загадка, отзывались эхом в моей голове. Они все еще преследуют меня почти сорок лет спустя. Он сказал: «Я творю твоего двойника». Затем я проснулся.
Я не получил высших оценок ни на одном экзамене, кроме французского языка, и поэтому потерял место, которое мне предложили в Политехникуме Риджент-Стрит в Лондоне, где я должен был изучать фотографию. Моя мать просто обезумела. Внезапно той осенью я оказался свободным от перспективы возвращения к тяжелой работе в еще одном образовательном учреждении. Я по-прежнему мог заниматься фотографией, но без необходимости получать оценки по академической системе, к которой я не испытывал большого уважения. Я решил провести год в путешествиях по Европе, якобы чтобы изучать искусство и культуру, прежде чем возвратиться в Англию и опять держать экзамены, которые были необходимы, чтобы поступить на курс фотографии. Но я приходил в ужас от одной только мысли о дальнейших занятиях в классах и экзаменах. Самая мысль о получении обычной профессии и карьере подавляла меня.