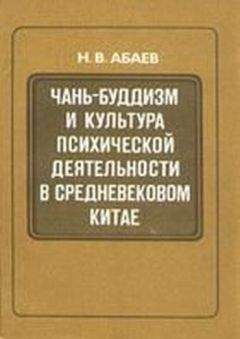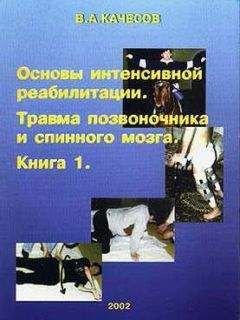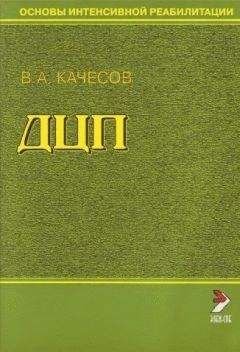Воспитывая любовь и уважение к физическому труду и выполняя многие другие психопропедевтические функции, пу-цин в то же время служил эффективным средством психофизической подготовки к адаптации человека в социокультурной и природной среде, средством, с помощью которого моделировалось важнейшее условие выживания человека на биологическом и социальном уровнях — тяжелый и упорный труд. В особо драматизированной, гротескной форме экстремальные условия жизнедеятельности человека моделировались в процессе парадоксальных диалогов-поединков (кит. «вэнь-да»; яп. «мондо»), когда перед учеником ставилась неразрешимая на логическом уровне задача (кит. «гун-ань»; яп. «коан»), требующая моментального решения под угрозой применения насильственных методов психофизического воздействия, или же во время занятий военно-прикладными искусствами (борьба, кулачный бой, фехтование и т. д.), которые тоже практиковались в некоторых чаньских монастырях в качестве одной из активно-динамических форм психотренинга и в которых главным условием успеха является мгновенная реакция и безошибочная координация действий [11; 14; 16].
Необходимо оговориться, что деление на «активные» и «пассивные» формы психотренинга применительно к чань-буддизму очень условно и относительно и отражает лишь внешнюю динамику процесса психической саморегуляции. С одной стороны, даже при самой бурной внешней активности чань-буддист должен сохранять непоколебимое внутреннее спокойствие, а с другой — достижение спокойно-сосредоточенного состояния отнюдь не означало полного «угасания» всякой психической жизни, а означало лишь освобождение психики от негативных факторов, вносящих в нее хаос и дезорганизацию и тем самым мешающих ее полнокровной жизнедеятельности, максимальной самореализации, самопроявлению ее естественных потенциальных возможностей. Поэтому даже так называемую «сидячую медитацию» (кит. «цзо-чань»; яп. «дзадзэн»), практиковавшуюся в совершенно неподвижной позе, можно называть лишь относительно пассивной формой чаньского психотренинга.
Но хотя все формы и методы психической тренировки должны были служить одной общей цели — достижению «просветления», пробуждению в человеке интуитивной мудрости (санскр. «джняна»; кит. «чжи»), многие чань-буддисты все же отдавали предпочтение именно активно-динамическим формам, либо вовсе отвергая «сидячую медитацию» и резко осуждая ее приверженцев, либо допуская ее только для «малоодаренных» учеников и лишь на начальных этапах тренировки, либо вкладывая в сам термин «цзо-чань» иное содержание и утверждая, что его нужно понимать не буквально, а как некое иносказание, которое на самом деле указывает на необходимость именно активно-динамической практики [204].
Такое отношение было обусловлено главным образом тем, что активно-динамические формы психотренинга в гораздо большей степени отвечали задачам реализации чаньского призыва обретать «просветление» в гуще активной мирской жизнедеятельности и служили более эффективным средством подготовки к такой деятельности, а также создавали более благоприятные условия для сугубо практического применения методов чаньского психотренинга на самых ранних этапах процесса психического самоусовершенствования. Как отмечал Д.Т. Судзуки, идеал чаньской жизни должен был осуществляться «не в простом видении истины, а в том, чтобы жить ею, переживать ее, не допуская никакого дуализма в жизни человека между видением истины и самой жизнью: видение должно быть жизнью, а жизнь — видением, без малейших различий между ними, кроме как в словах» [191, с. 105].
Поэтому чань-буддизм не просто снимал все ограничения и запреты на сугубо мирскую деятельность, кодифицированные в правилах Винаи, но весьма решительно и энергично побуждал своих последователей к самому активному участию в ней и, более того, объявлял «греховной» не практическую деятельность (как в некоторых других школах буддизма), а пассивную созерцательность, квиетизм, мистическое самоуглубление и уход от жизни. «Односторонняя привязанность к дхьяне (медитации) неизбежно ведет к квиетизму и смерти», — писал Д.Т. Судзуки, подчеркивая, что «дхьяна не есть квиетизм или транквилизация (т. е. абсолютное спокойствие, угасание всякой активности. — Н.А.), а скорее это действие, движение, исполнение [определенных] обязанностей, видение, слышание, размышление, вспоминание; дхьяну можно обрести там, где, так сказать, нет специально] практикуемой дхьяны» [198, с. 37, 50].
Таким образом, чань-буддист не только мог, но и был обязан с максимальной отдачей сил исполнять свои светские обязанности, добросовестно служить общественному долгу, быть деятельным и креативным, т. е. подходить к своей деятельности активно-созидательно, Творчески. Поэтому хотя спонтанное и интуитивное Творение занимало очень важное место в теории и практике чань-буддизма и расценивалась как центральный психологический опыт, оно отнюдь не было самоцелью, по достижении которой чань-буддист считал бы свою миссию выполненной, или же наивысшим моментом актуализации истины. В конечном итоге его смысл заключался в том, чтобы лучше подготовить человека к выполнению его социальных и культурных функций, и кульминационный момент актуализации истины заключался в акте творения или, точнее, в любом действии, которое претворяется в порыве творческого вдохновения. «Истина не есть открытие, истина есть творение», — писал по этому поводу Р. Блайс [125, т. 2, с. 180].
Освобождая сознание человека от эмоционально-психической «омраченности», сковывающей его творческие способности, внося момент красоты и совершенства в каждый акт взаимодействия с окружающим миром, пробуждая творческое отношение к каждому явлению Окружающей действительности, интуитивное «озарение» заново открывало в нем некогда утраченную способность, свойственную поэтам, художникам и детям, «читать каждый лепесток как глубочайшую тайну бытия» и «превращать нашу обыденную жизнь в нечто подобное искусству» [201, с. 2, 17]. Чань-буддисты утверждали, что в любом человеке, независимо от того, имеет он какое-либо отношение к искусству или нет, изначально живет художник, но не обязательно художник слова или кисти, а, так сказать «художник жизни». От нас нельзя ожидать, — писал Д.Т. Судзуки, — чтобы мы все были учеными, но природа создала нас такими, что мы все можем быть художниками — не в буквальном смысле мастерами, различных видов искусств, такими, например, как живописцы, скульпторы, музыканты, поэты и т. д., а художниками жизни» [201, с. 15]. Этот «художник», указывал он, «не нуждается, подобно живописцу, в холсте, кистях и красках, или же, подобно стрелку из лука, в луке, стрелах, мишенях и других приспособлениях. У него есть руки, ноги, туловище, голова и другие части тела. Его жизнь в дзэн выражает себя с помощью всех этих «орудий», играющих важную роль в проявлении дзэнской жизни. Его руки и ноги являются кистями, а вся вселенная холстом, на котором он пишет свою жизнь в течение семидесяти, восьмидесяти или даже девяноста лет» [157, с. 7–81].
Но хотя чаньский «художник» или, иначе, «мастер жизни» вступил в активное и творческое взаимодействие с окружающей средой, он ни в коем случае не противопоставлял себя природе, не воспринимал ее как пассивный объект своей созидательной деятельности. Противопоставление человека природе, субъекта познания и деятельности объекту, равно как и взаимосвязанное с ним противопоставление «природного» и «культурного», было глубоко чуждо чаньской культуре, строившей свои взаимоотношения с природой на совершенно иной (по сравнению с конфуцианской культурой) психологической и этической основе, причем есть некоторые существенные отличия и от даосской культуры. Как мы уже отмечали, конфуцианские» нормы «культурного» поведения зачастую превращались в орудие противоборства двух начал и подавления природного начала культурным, отчуждения конфуцианизированной личности от ее собственной «истинной природы» и от окружающей природной среды. К тому же предписываемое конфуцианством стремление постоянно сдерживать себя, чтобы во всем соответствовать правилам «ли», и заранее обдумывать все поступки [65, с. 123; 103, гл. 12, § 1, с. 262] создавало проблему выбора, которая уже сама по себе чревата неблагоприятными последствиями для окружающей природной среды, поскольку более вероятно, что конфуцианизированная личность, наделенная острым чувством социальной ответственности, чувством гуманности, долга, справедливости и т. д., которое не распространялось на живую природу, будет руководствоваться в своей мироустроительной и созидательной деятельности интересами общества, а не экологическими соображениями, будет больше думать о пользе для мира людей, а не, скажем, мира животных.
«Естественное» поведение, поборниками которого были чань-буддисты и даосы, не создает такой проблемы, так как в его основе лежит механизм спонтанного реагирования на импульсы внешней среды, оно не имеет альтернативы и дается как единственно возможное для каждой ситуации, поскольку у него не может быть противопоставленного ему «неправильного» естественного поведения. Проблема выбора заложена в самой природе «культурного» поведения, ибо оно обязательно подразумевает хотя бы две возможности» (ср. призыв Конфуция любое дело обдумывать по меньшей мере два раза), из которых только одна выступает как «правильная», т. е. соответствует определенным нормам и предписаниям [63, с. 7]. Поэтому во всей своей практической деятельности, в каждом акте взаимодействия с окружающей средой конфуцианизированная личность должна была постоянно выбирать между этими возможностями, соотнося свои поступки со всей иерархией ценностей. И сугубый антропоцентризм конфуцианской этики, не только не предусматривавшей перенесения норм человеческой морали на взаимоотношения с живой природой, но и рассматривавшей их как исключительную прерогативу человеческой культуры, как ее отличительное свойство, предопределил то обстоятельство, что ситуация выбора складывалась в общем-то не в пользу природы, хотя первоначально конфуцианская культура не стремилась к полному разрыву с природой.