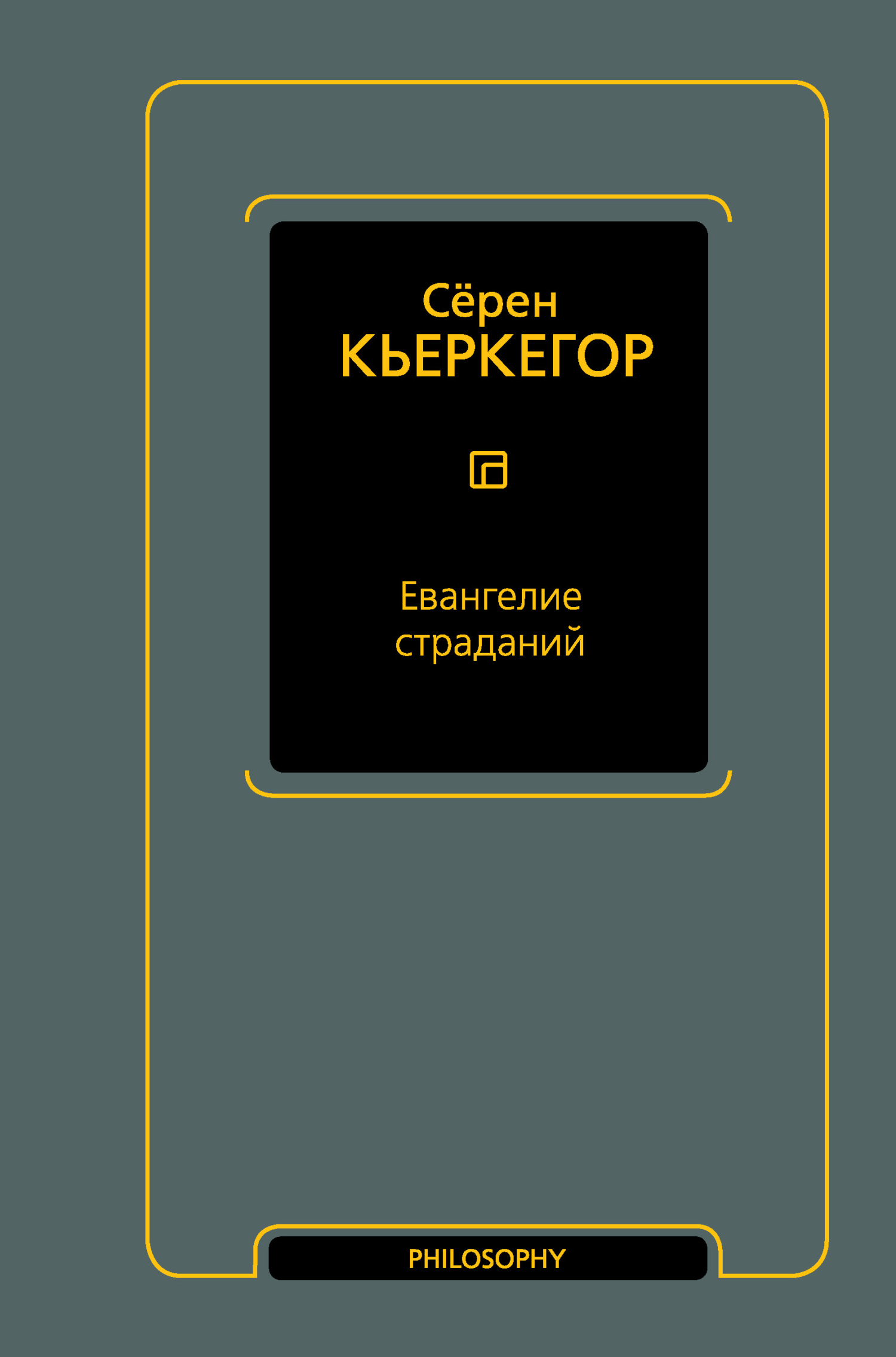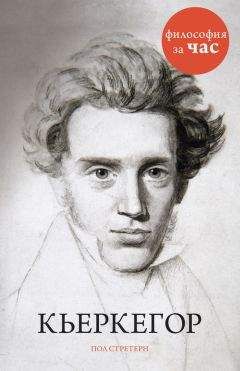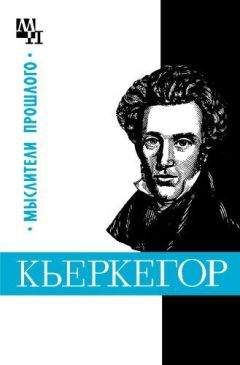последнее самому себе, но ведает этим даянием во всякое мгновение, а значит, и в мгновение, когда человек его получает. Но если так, то понятен смысл уподобления, к которому прибегает здесь образная речь: тогда понятно, что любовь отца никогда не может быть такой, как любовь Бога, – столь крепкой, столь глубокой, – и потому любовь отца не может того, что может Божия любовь, всемогущая в своей беспредельной силе.
Если это слово понимать так, то образ, который делал его понятным для несовершеннолетних, но трудным для взрослых, отходит в сторону, и это слово говорит ровно то, что говорит апостол: что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше. Тем, чем не обладает земная жизнь, тем, чем не обладает никто из людей, тем обладает один только Бог, и то, что Бог один этим обладает, делает совершенным не Бога, но добро, поскольку это значит, что человек может участвовать в чем-то добром только благодаря Богу. Что есть тогда добро? То, что нисходит свыше. Что есть совершенство? То, что нисходит свыше. Откуда приходит оно? Свыше. Что есть добро? Оно есть Бог. Кто дает его? Бог. Почему добро есть даяние, дар, и почему это не образное его именование, но единственное действительное и истинное? Потому что оно – от Бога; ведь если бы оно появлялось благодаря самому человеку или же усваивалось, бы человеку благодаря другому человеку, то оно не было бы ни добром, ни даром, но лишь казалось бы таковым, ведь Бог – единственный, Кто, давая дар, дает и условия для его принятия во благо; единственный, Кто, давая, все уже дал. Бог дает и хотение, и действие [164], Он начинает и совершает доброе дело в человеке [165].
Будешь ли ты отрицать, мой слушатель, что понимание этого не в силах отменить никакое сомнение, ведь это понимание пребывает за пределами всякого сомнения, пребывает в Боге?! Если же ты не желаешь пребывать в этом понимании, то только потому, что ты не хочешь пребывать в Боге, в Котором ты, впрочем, живешь и движешься, и существуешь [166]. Но тогда почему ты этого не хочешь?! Даже если это понимание и непостижимо для сомнения, оно не становится от этого неистинным; напротив, оно само стало бы сомнительным, если бы сомнение оказалось в силах его постичь. И если это понимание не может и не желает вдаваться в область сомнения, оно не становится от этого неистинным; напротив, если бы оно погрузилось в эту область, оно само стало бы не истиннее сомнения. Оно пребывает истинным как раз потому, что пресекает сомнение, делает его безоружным. Если бы оно не делало этого, то не имело бы над сомнением силы, но было бы у него в услужении, и его победа над сомнением была бы ложной, ведь тогда побеждало бы как раз сомнение. Мысль человека находит путь ко многому в мире, проникает даже во мрак и тень смертную, во чрево гор, находит дорогу туда, куда ни одна птица не знает пути, и глаза его видят сокровища земли (ср. Иов 28:1–11), но пути к добру, к сокровищнице добра она не знает. Туда ведь не ведет никакого пути, но всякий добрый и совершенный дар нисходит свыше.
Ты скажешь, быть может: кто же станет отрицать, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный – свыше. Однако не отрицать этого далеко еще не значит это понимать, а понимать это далеко еще не значит желать верить этому и верить этому. Но тот, кто не с, тот неизбежно против [167]. Кажется ли тебе и здесь плод познания столь приятным, что ты, вместо того чтобы судить духовно, желаешь лучше иметь знак, позволяющий опознать доброе и совершенное, и иметь доказательство того, что оно действительно низошло свыше? Как же должен быть устроен такой знак? Не должен ли он быть совершеннее совершенного, добрее доброго, если предполагается, что он способен доказать, что совершенное есть совершенное? Может быть, таким знаком будет знамение, чудо? Но разве чудо – не смертельный враг сомнения – так, что они друг с другом несовместимы? Может быть, таким знаком будет опыт? Но разве сомнение не есть беспокойство, делающее жизнь опыта шаткой, немирной, никогда не входящей в покой [168], никогда не прекращающей поиска, так что даже если она нечто и находит, то никогда этим не довольствуется? Должно ли стать таким знаком свидетельство плоти и крови? Но разве плоть и кровь – не доверенные сомнения, с которыми оно постоянно советуется? [169]
Но если здесь невозможно доказательство, не значит ли это, что сомнения не остановить? Ни в коей мере. Если бы доказательство могло быть приведено так, как того требует сомнение, то этим сомнение не могло бы быть остановлено, так же, как не может быть остановлена болезнь с помощью лекарства, которого она сама жаждет. Если же ты, напротив, будешь иметь уверенность, тогда апостол покажет тебе путь еще более совершенный [170] – путь, на котором ты умрешь для сомнения, а совершенство придет к тебе; ведь слово веры не борется с сомнением орудиями последнего, но сперва связав сильного, забирает у него его орудия [171].
И вот сперва апостол устраняет завесу мрака, удаляет тень перемены [172], прорывает череду изменений, обращая взор верующего вверх, к небу, чтобы он искал горнего (Кол 3:1–2); чтобы ему мог явить Себя во всем Своем вечном величии, высящемся над всяким сомнением, Тот, Кто пребывает на небесах, – Отец светов, светлость которого не помрачает никакая тень, не изменяет никакая перемена, не затмевает никакая зависть, и никакое облако не закрывает от очей верующего. Если это не стоит для тебя твердо, если ты желаешь вверить себя фальшивой дружбе сомнения, оно тут же примется вновь и вновь все искажать для тебя своими тенями, запутывать своими изменениями, затмевать ночными туманами, лишать тебя этого, словно бы его никогда и не было. Поэтому и говорит апостол: всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.
Апостол обращается здесь к единственному, чтобы дать ему понять условие, которое делает для него возможным принять добрый и совершенный дар. Этим условием является то, что дающий – Сам Бог, а иначе дар не был бы добром, благом; этим условием опять же является совершенство, а иначе это добро не было бы совершенным даром. Земная нужда отнюдь не является совершенством, напротив,