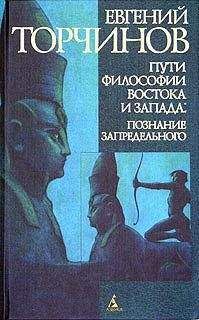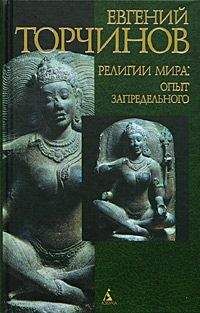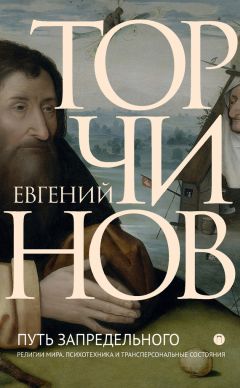Буддийский апологет Ло Цзюнь-чжан (трактат «Гэн шэн лунь» – «О будущей жизни») приходит к пониманию духа как некоей вечной и неизменной сущности, аналога брахманического атмана: «Люди и иные существа, пребывая в процессе метаморфоз и превращений, тем не менее имеют свою индивидуальную природу (син). Природа имеет свой сущностный корень (бэнь фэнь). Следовательно, существует некая постоянная (вечная) вещь (чан у)».[222] Другими словами, Ло Цзюнь-чжан утверждает, что дух (шэнь) является вечной сущностью, не подверженной процессу универсальных трансформаций. Он также обеспечивает самотождественность любого живого существа, будучи трансцендентальным условием возможности перерождений и продолжения жизни после смерти тела.[223]
Изменение направленности характерно и для такого аспекта полемической активности буддистов, как проблема теизма. В Индии буддизм разработал нетеистическую доктрину ниришваравады (как частный случай анатмавады), однако в Китае, где теистических направлений не было, данная активность утратила свою актуальность (в Индии обусловленную задачами полемики с брахманистским теизмом), а метафизика различных направлений буддизма в Китае со своими субстанциалистскими тенденциями стимулировала, скорее, протеистические тенденции в даосизме.
В качестве примера можно привести достаточно красноречивые пассажи из «Гуань Инь-цзы»:
«Один гончар может изготовить мириады кувшинов, но никогда не будет ни одного кувшина, который мог бы изготовить гончара и мог бы навредить гончару.
Один Дао-Путь может создать мириад существ, но никогда не будет ни одного существа, которое могло бы создать Дао-Путь и могло бы навредить Дао-Пути» (из гл. 1).
«Небо не само по себе стало Небом – есть некто, сотворивший Небо. Земля не сама по себе стала Землей – есть некто, сотворивший Землю. Ведь комнаты, балки, лодки, колесницы созданы человеком. Мир объектов не сам себя создал. Знай, что есть нечто, от чего зависят объекты. Знай, что это нечто уже ни от чего не зависит» (из гл. 2).
Подобного рода креационистские идеи (как и тезис о самодостаточности субъекта) не могут быть выведены ни из собственно китайской традиции, ни из эталонного индийского буддизма. Только взаимодействие китайской и индийской традиций, выразившееся во взаимовлиянии буддизма и даосизма, создало условия для подобного результата. Сама же доктрина ниришваравады оказалась в Китае преданной полному забвению.
Весьма своеобразна и социальная доктрина китайского буддизма. В Индии буддизм как альтернативное брахманизму учение всегда опирался на царскую власть и варну кшатриев, из которой происходили носители царской власти (даже о происхождении варны брахманов буддийские тексты едва упоминают). Буддизм в Индии разработал даже «договорную» концепцию царской власти, близкую аналогичной моистской доктрине традиционной китайской философии. Буддисты настолько полагались на покровительство царей, что упадок буддизма в Индии во второй половине I тыс. до н. э. во многом может быть объяснен быстрым возвращением индийских венценосцев в лоно брахманизма и их отказом буддизму в покровительстве; там же, где цари продолжали покровительствовать буддизму, его влияние сохранялось до конца XII в. (так было в Магадхе при династии Пала, покровительствовавшей буддизму до самого своего падения). Интересно, что именно на буддизм и его доктрину совершенного царя-чакравартина ориентировался и великий император Ашока, создатель первого всеиндийского государства. Вместе с тем в Индии такая зависимость от царской власти не означала подчинения сангхи государству и утраты ею своей независимости, поскольку в Индии сохранялась древняя традиция независимого существования монашеских сообществ, относительно которых цари выступали лишь покровителями-милостынедателями, тогда как монахи выступали в роли их духовных учителей и наставников.
В Китае буддизм столкнулся с совершенно иной ситуацией. Здесь имели место исключительно высокая степень сакрализации власти монарха-пантократора, или даже космократора, и практически неограниченный контроль государства над всеми сферами жизни. Поэтому существование в Китае независимой от государства сангхи было немыслимым. И тем не менее в начале V в. монах Хуэй-юань (334–416) предпринял попытку отстоять независимость сангхи. Эта полемика интересна не столько сама по себе, сколько как еще один пример принципиально различной культурной позиции носителей традиционной китайской культуры и буддийского мировоззрения.
Хуэй-юань в ответ на антибуддийские указы узурпатора Сюань Хуаня (402–404) написал и послал правителю трактат под названием «Монах не должен оказывать почести государю» («Сэн бу цзин ван чжэ лунь»).[224] Здесь не место подробно анализировать его содержание (это уже предпринималось в отечественной науке). Важно только отметить те аспекты данного памятника, которые непосредственно отражают все различие китайского и индобуддийского взглядов на мир.
Хуэй-юань признает все функции императора, приписывающиеся ему традицией: император является носителем животворной силы-дэ, он ответствен за правильное чередование сезонов, процветание подданных и т. д. Все эти функции чудесны и возвышенны и вписаны в гармонический порядок универсума. Однако все они, утверждает Хуэй-юань, сансарической природы, тогда как монах возвышается над космосом и его миропорядком, его природа «трансцендентна» космическим началам и силам, он устремлен к выходу из этого мира и к обретению нирваны. А потому монах не ниже, а выше императора и ни о каком подчинении сангхи государству, в том числе и ни о каких поклонах и простирании ниц монаха перед государем не может быть и речи. Эта позиция выражена Хуэй-юанем четко и ясно. И тем не менее исторически победило государство и дух традиционного китайского этатизма, и сангха оказалась поставленной под полный государственный контроль.
Таким образом, при изучении даосско-буддийского взаимодействия прежде всего необходимо проанализировать основные теоретико-методологические проблемы исследования. Для понимания роли даосизма в процессе китаизации буддизма, равно как и общественного характера и направления этой «китаизации», следует обратить особое внимание на изучение отношений представленной даосизмом традиционной китайской модели мира, человека и общества с репрезентируемой буддизмом индийской моделью. Здесь же необходимо поставить вопрос об изучении взаимодействия буддизма и даосизма на всех уровнях, характерных для полиморфных религиозно-философских образований: доктринальном, философско-дискурсивном и психотехническом, что позволяет решить такие проблемы, как: а) соотношение доктрин бодхисаттвы и бессмертного (сянь) в качестве аксиологически нормативных для религиозной прагматики обеих традиций; б) типология буддийской (в частности, тантрической) и даосской психотехники; в) степень влияния культурной китайской модели и особенностей китайской философии на философско-дискурсивный уровень буддизма в Китае. Одним из следствий предложенного здесь нового подхода явится углубление понимания общего и особенного в великих культурах Востока – индийской и китайской.
После перевода на китайский язык буддийских философских трактатов (вначале шуньявадинских, а позднее и виджнянавадинских) неправомерность интерпретаций психического в духе буддийских оппонентов Фань Чжэня стала очевидной. С другой стороны, определенное понимание буддизма в Китае уже сложилось, и отказаться от него было практически невозможно. Тогда теоретики китайского буддизма в самой индийской традиции нашли идеи, подкрепляющие сложившуюся интерпретацию буддизма. Начинается период реинтерпретации буддизма в Китае (вторая половина V – первая половина VI в.), связанной с расцветом в Китае теории Татхагатагарбхи (кит. жулай цзан).
Три фактора сыграли очень важную роль в знакомстве китайских буддистов с теорией Татхагатагарбхи и в отдании ей предпочтения перед другими буддийскими учениями: перевод на китайский язык «Махапаринирвана сутры», имевший огромный резонанс; деятельность Парамартхи, активно пропагандировавшего в Китае синтез йогачары и теории гарбхи и познакомившего Китай с таким шедевром этого синтеза, как «Махаяна шраддхотпада шастра», а также установившийся еще со времен крупнейшего конфуцианца Мэн-цзы (ок. 372–289 до н. э.) устойчивый интерес китайской мысли и китайской культуры к проблеме сердца-ума (синь) – индийское зерно пало на добрую почву.
История формирования текста «Махапаринирвана сутры» очень сложна и запутанна, особенно если учесть разницу между ее редакциями, имевшими хождение в Северном и Южном Китае, серьезные содержательные отличия в переводах (Буддхабхадры, Фа-сяня и Дхармакшемы). По всей видимости, окончательно текст сутры, имевшей, конечно, индийское происхождение, сформировался в Центральной Азии. Именно там, вероятнее всего, в сутру была добавлена знаменитая 23-я глава, провозгласившая тезис, согласно которому все живые существа обладают изначально пробужденной природой, являясь по своей сути Буддами.