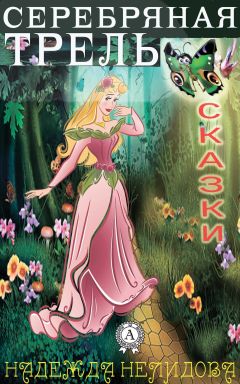Больничный осмотрел его рану на шее и покачал головой:
- Если бы колдун был жив, я бы послал за колдуном, - сказал он тихо и подозвал Лытку.
Рана на кадыке архидиакона, совсем небольшая по размеру, опухла, и кожа вокруг нее приобрела бледный водянистый цвет, более подходивший покойнику, а не живому человеку. Из раны сочилась зловонная зеленоватая слизь, а под обеими челюстями набухли плотные желваки.
- Оставайся на ночь в больнице, Дамиан, я привяжу рану солью и буду часто менять повязки, - вздохнул больничный.
- Солью? Это все, что ты умеешь? - фыркнул архидиакон.
- Колдун знал другие способы… - уклончиво ответил больничный.
- Нет уж, здесь я не останусь, спать я пойду к себе. Пусть он, - Дамиан ткнул пальцем в Лытку, - идет со мной и меняет повязки.
Лытка пожал плечами - молиться он может и в келье архидиакона, а уход за больным убийцей станет испытанием смирения и кротости.
Ночью Дамиану стало плохо: его начал бить озноб, сменявшийся потом и жаром, и Лытка то кутал его в одеяло, то, наоборот, менял ему белье и обтирал влажным полотенцем. И молился. Молился, чтобы Господь послал ему силы выдержать испытание. Но, глядя на распятие, видел огромные сухие глаза Лешека и яблочную кашицу, стекавшую на подушку из уголка рта. Он не мог не вспоминать, как держал зубами руку архидиакона и как монахи не сумели сразу разжать его стиснутых челюстей. Дамиан убил Лешека во второй раз. Господь спас тому жизнь, а Дамиан убил его снова. Как будто довершил начатое когда-то.
- Что? Молишься за упокой души своего безбожного дружка? - хмыкнул Дамиан, и в темноте блеснули зубы, оскаленные в усмешке.
- Я молюсь за твое выздоровление, - кротко ответил Лытка. - Чтобы Бог послал мне силы не убить тебя.
- Вот как? Ну-ну, - снова усмехнулся архидиакон. - Убийство - страшный грех, юноша. Я знаю это лучше тебя.
- Да, отец Дамиан. Тебе это должно быть известно лучше, чем мне, - оскалился Лытка в ответ.
- Ты всегда был волчонком, парень. Еще в детстве, помнишь? Когда авва поймал тебя на подслушивании? Ты и тогда огрызался, ты и тогда не боялся меня, правда?
- Я всегда тебя ненавидел, - кивнул Лытка, - а теперь ненавижу еще сильней.
- Скажи мне, почему ты, волчонок, вдруг решил стать агнцем? Зачем?
- Тебе этого не понять, отец Дамиан.
- Да, мне этого не понять. Я и сам был волчонком, но я стал волком, а ты?
Лытка промолчал и, повернувшись к распятию, обратился к Богу.
Весь день Дамиан провел в горячке, Лытка же исправно заходил к нему каждые два часа, менял повязки, поил малиновым настоем, вытирал ему пот. Лицо архидиакона побледнело до синевы, а шею раздуло так сильно, что опухоль мешала ему дышать. Больничный велел прикладывать к ране лед, и Лытку освободили от службы, чтобы лед на горле архидиакона никогда не таял.
К ночи Дамиан начал впадать в забытье и бормотал что-то еле слышно, и хрипел, и вскакивал с постели: Лытка терпеливо укладывал его обратно и сидел на кровати, придерживая его плечи прижатыми к подушке.
После повечерия больничный призвал в келью архидиакона семерых иеромонахов во главе с аввой, и святые отцы соборовали несчастного. И когда на лоб ему лег Благовест, архидиакон вдруг расплакался, держась руками за шею, и сквозь слезы попросил:
- Позовите колдуна. Пожалуйста, позовите колдуна. Ну что вам стоит?
Авва кашлянул, а иеромонахи возвели очи горе, делая вид, что не услышали его слов. Лытка, уже привыкший к тому, что Дамиан бредит, вдруг почувствовал острую жалость: Господь услышал молитвы, ненависть ушла из сердца.
Но когда иеромонахи молчаливой цепочкой покинули келью, унося с собой горящие свечи, настроение архидиакона изменилось. Он снова начал мерзнуть, и подтягивал одеяло к подбородку, и неотрывно смотрел в темный угол кельи, около окна, и подбородок его дрожал так, что стучали зубы.
- Свечи. Зажги свечи, - прохрипел он Лытке. - Он там, я знаю, он там… Ждет, когда ты уйдешь.
- Там никого нет, отец Дамиан, - вздохнул Лытка.
- Зажги свечи, и ты увидишь. Он там, я вижу его. Он пришел за мной. Он хочет утащить меня в огненную бездну.
- Ты говоришь о враге рода человеческого? - сочувственно спросил Лытка: вот кого Дамиану сейчас следовало опасаться более всего.
- Нет! Конечно нет! Это колдун, колдун!
Лытка зажег свет, чтобы архидиакон мог убедиться в том, что в келье нет никого, кроме них двоих. Но тот не успокоился и снова начал плакать, тонко подвывая, как маленький волчонок, которым он когда-то был. И когда Лытке пришло время спуститься за льдом, Дамиан схватил его за руку и зашептал:
- Не уходи, слышишь? Не надо этого льда. Хочешь, я покаюсь тебе? Тебе одному?
- Не надо, я даже не монах еще, я не могу принять исповедь, - испугался Лытка.
- Что исповедь - это пустой звук. Я покаяться хочу, - Дамиан закашлялся и схватился за горло, - впрочем, и покаяние - пустой звук. Все напрасно… Ничего нет. Ничего не будет. Бог - он обманул меня, обманул. Обвел вокруг пальца. И тебя он тоже обманул, он обманул нас всех.
Архидиакон расплакался, и слова его превратились в бессмысленное бормотание. Лытка сходил за льдом, а когда вернулся, застал Дамиана сидевшим на постели и прижимавшим колени к груди. Его ввалившиеся глаза горели огоньком безумия, он указывал пальцем в угол комнаты и хрипел.
Лытка уложил его, поменял повязку и сел в изголовье, стараясь успокоить. Дамиан прижался лицом к ногам Лытки и судорожно схватился за его руку.
- Он ждет меня, - плакал архидиакон. - Его выкормыш нарочно укусил меня, чтобы колдун мог меня забрать.
По спине Лытки пробежала дрожь.
- Я смеялся над ним, я плевал на него и вытирал об него ноги. А он нарочно… укусил… Чтобы я не смеялся. Я не смеюсь, не смеюсь! Все? Тебе достаточно? - Дамиан приподнялся и взглянул на подсвечник. - Или еще мало? Что вы хотите от меня? Что я вам сделал?
- Ты убил их, Дамиан, - ответил Лытка.
Архидиакон повалился на подушку, несколько минут бормотал что-то неразборчивое, а потом закричал:
- Тела-то не нашли! Не нашли тела-то! Вранье, все вранье! Вся жизнь - вранье. Место, где он лежал, нашли, но тела-то не было! Авва врет мне, я вру авве. Мы вместе врем братии. Авда станет настоятелем, вот увидишь. Когда старый хрыч подохнет, Авда станет его преемником. Он тоже жрец.
Лытка терпеливо слушал бред архидиакона, но тот вскоре перестал говорить и только хрипел, снова показывая пальцем в угол, и трясся, и пытался подняться. И тогда Лытка подумал, что, чего доброго, архидиакон умрет без причастия. Он взял на себя смелость разбудить авву, и тот безропотно спустился вниз, взяв с собой потир и облачившись в епитрахиль поверх подрясника.
Дамиан сидел на полу, возле кровати, он сорвал повязки и держался руками за шею, лицо его покраснело, и каждый вдох сопровождался судорожным хрипящим стоном. Но едва увидев авву, архидиакон замотал головой и замахал руками, не в силах выговорить ни слова. Авва осенил себя крестным знамением и, не обращая внимания на сопротивление, накрыл голову Дамиана епитрахилью, одними губами прошептал обрывки разрешительной молитвы, зачерпнул из потира преждеосвященных даров и попытался сунуть их в рот Дамиана. Но тот забился и захрипел, и в глазах его плескался такой ужас, что Лытка отступил на шаг.
- Что? Не хочешь? - авва захихикал. - Помоги мне, юноша, подержи его. Даже если отец ойконом в бреду, мы не можем позволить ему умереть, пока он не вкусил плоти и крови Христовой.
Лытка кивнул и взял Дамиана за руки. Тот мотал головой и хрипел, по щекам его бежали слезы, словно авва пытался дать ему смертоносного яда. Авва властно взял архидиакона за челку, запрокинул ему голову и протолкнул серебряную лжицу в рот, раздвигая ею стиснутые зубы.
А на следующий день Лытке приснился сон: молочная река с кисельными берегами, о которой ему в детстве рассказывала бабушка, а на берегу этой реки стоит Лешек и машет ему рукой. И лицо у него счастливое, и румянец играет на щеках, и глаза сияют - большие светлые глаза, которые не помещаются между висков. Лытка проснулся в слезах и хотел помолиться за упокой его души, но вдруг ему в голову пришла радостная и запретная мысль: а что если колдун не соврал? Что если он и вправду ждал Лешека на реке Смородине, у Калинова моста? Эта мысль теплой волной затопила грудь, и Лытка не стал ее прогонять.
50 лет спустя
Молодой послушник Виссарион, попросту - Вешня, пришел в монастырь по своей воле, когда два неурожайных года подряд породили в деревнях небывалый доселе голод. Он был счастлив уже тем, что его приняли в стены обители, и старался постичь монастырскую жизнь не за страх, а за совесть. Иноком он стать не рассчитывал, «рылом не вышел», но по сравнению с мытарствами в миру Пустынь казалась ему раем на земле, а монахи - небесными ангелами. Он с радостью хватался за любую работу, желая угодить всем, и вскоре его усердие и опрятность были замечены: вместо скотного двора Вешню отправили в помощники иеродиакона Никодима, который учил его обрабатывать кожи для пергаментов, готовить перья и чернила и другие принадлежности для письма - иеродиакон вел летопись Пустыни.