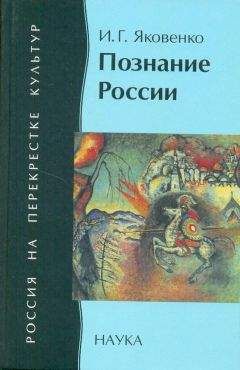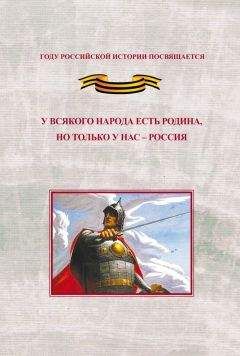Дело в том, что далеко не всегда жертва со стоящими от страха волосами взбегала по ступенькам храма и попадала в руки жрецов, кидавших его на жертвенный камень. После чего старший вспарывал обсидиановым ножом грудную клетку несчастного, вырывал трепещущее сердце и поднимал его обеими руками вверх, предлагая этот дар Солнцу. Так оформляли жертвоприношение ацтеки. Но наряду с таким, если угодно, пассивно-элементарным ролевым поведения жертвы, существовали разнообразные и весьма сложные сценарные (и, соответственно, ролевые) программы. Так, у некоторых североамериканских индейцев приносимый в жертву пленник, словно в исступлении, пел и танцевал, это было частью ритуала. У канадских гуронов ведомый к месту казни связанный пленник «…то издавал вопли от боли, то запевал боевую песнь, которую он выучил еще в детстве специально для такого, возможного в будущем случая»251.
В отдельных местах принесение в жертву предполагало ритуальное моделирование битвы. При этом жертва, которую обступили ее убийцы, могла не только увертываться от ударов, но и отбиваться игрушечным оружием (маленькой дубиной). Связанная по ногам жертва могла кидать в своих мучителей сложенные перед ней плоды, небольшие камни, горсти земли. И, наконец, самое замечательное. В завершение всего главный палач, в роскошных одеяниях, взяв в руки дубину, устремлялся к жертве со словами: «Разве не ты принадлежишь народу, который враг нам?» Пленнику надлежало отвечать на это вопрос: «Да, я очень сильный, я убил несколько ваших человек. Я очень смелый и буду нападать на ваших людей, я их съел немало». После чего палач убивал жертву252.
Чем же отличаются показательные процессы от ритуального моделирования битвы, требующего от жертвы признания статуса смертельного врага своих палачей? Разве что тем, что дробление синкрезиса разделило функции обвинителя и собственно палача. Поэтому облаченный в роскошные одеяния Вышинский253 вопрошал и выслушивал ответы, а незримый миру палач убивал в подвалах Лубянки. Наверняка, в программировании поведения подсудимых работали и все остальные, исторически последующие уровни. Но им подлежал слабо осознаваемый и не вербализуемый, ни следователями, ни подследственными, архаический сценарий. Он не осознавался субъектом действия, но угадывался, фиксировался на ощупь и безошибочно использовался.
Есть у проблемы и уровень, связанный с переживанием террора как страшного, экстраординарного события, как огромного общего греха. По свидетельству очевидцев (см., например, воспоминания резидента ИНО Г. Агабекова), расстрельные команды по выполнении своей работы пили и долго приходили в себя. Мало того, их поили специально254. И это — самое весомое свидетельство нравственного прогресса человечества. Ибо воины Ашшурбанипала или Чингисхана, выполнявшие аналогичную работу, никакого дополнительного довольствия в наркотиках не получали и психологических проблем не испытывали.
При всей архаике, российское общество нельзя назвать доосевым. Табу на убийство, по крайней мере «своего», укоренилось в сознании людей. С одной стороны, общество горело пароксизмами манихейской истерии и порождало психологию осажденной крепости. А потому испытывало неотрефлексированную и, мало того, не признаваемую в собственном качестве потребность в переживании ритуала жертвоприношения. С другой — человеческая жертва была страшна, а отношение к жертвоприношению амбивалентным. Потребность существовала, но субъект, ее реализовывавший, был страшен и греховен. Своим существованием он напоминал о потаенном и разрушительно неприемлемом.
О том, что табуировалось к осознанию, подлежало забвению, вычеркивалось из памяти. По всему этому палачу надлежало исчезнуть. Ибо с гибелью палача от каждого субъекта толпы отчуждался неприемлемый для заданной христианством половины его естества импульс языческой тяги к кровавому ритуалу. Инверсия палача в жертву в глазах массы и самого палача оказывается искуплением, замыкающим круг и снимающим ответственность со всех — и с палача, и, главное, с толпы.
Человек, идущий по пути регресса, не тождественен девственному дикарю. Он не в состоянии полностью вытеснить в себе самом отринутые уровни культуры. Отрицаемое не исчезает, но оттесняется, табуируется. Респектабельные вельможи или заурядные чиновники с ромбами в петлицах знали про себя, что они ПАЛАЧИ. И некоторым планом сознания, традиционалистской частью своей души сознавали, что их падение и казнь несут в себе простую справедливость. Такая двойственность сознания, давление вытесненного уровня на субъекта задает горячечную активность в движении по выбранному пути, но чревата не менее острой инверсией. Все и всяческие удары судьбы читаются как возмездие. Эта мысль обессиливает, лишает воли к любому сопротивлению, диктует то самое ожидание, о котором говорил уже упоминавшийся нами старый зэк Матвей Давыдович Берман.
Все эти идеи и положенности витали в воздухе, формировали сознание начальников. Да и сами они, как органическая часть такого общества, переживали те же мысли и эмоции. Образование и формальная принадлежность к рациональной европейской традиции в данном случае роли не играли. Подлинно рациональные субъекты оказывались в другом стане. С коммунистами связывали свою судьбу люди, сущностно архаические, принадлежащие к описываемой традиции. Потому поведение обреченных функционеров противоречило инстинкту самосохранения. Завершая тему, надо сказать, что палач и жертва, в нашем случае, во многом бессубъектны и взаимозаменяемы. Им трудно вменить их поступки. Они — лишь агенты безличной, архаической традиции, абсолютной и императивной.
Что же касается петлюровцев, белогвардейцев, антисоветчиков, то последние не осознавали себя частью советского общества. В этой среде могли быть и люди вполне традиционные. Однако они экзистенциально дистанцировались от советского целого. А значит, ритуал самопоедания не имел на них магического, завораживающего действия.
А как же Борис Бажанов? Это был рациональный человек, над ментальностью которого архаические модели не имели власти. Бажанов демонстрирует чисто рациональное, расколдованное в веберовском смысле сознание. Видел, анализировал, понимал и решительно не обнаруживал желания пройти весь путь от начала до конца. Внимательное чтение его мемуаров позволяет увидеть, что приход Бажанова к большевикам был чисто конъюнктурным. Он голодал, а в аппарате сытно кормили. Бажанов оценил все преимущества власти, благодаря гибкости и природным данным быстро поднялся и столь же быстро понял неизбежную логику собственной судьбы. После чего умудрился обмануть самого Сталина и уйти.
Возвращаясь к логике инверсии палач/жертва, заметим, что в традиционной культуре существует сценарий массовой инверсии толпы в палача и, далее, в жертву. Это сценарий бунта. Сначала разъяренные люди жгут палаты и разрывают боярина на части, а потом падают на колени и выдают зачинщиков. Так что сама инверсия палача в жертву была вполне накатанным сценарием, обретавшимся в сознании людей как естественный и единственно возможный.
Повторим еще раз, культура наследует сценарии, а не роли. Сценарий — есть целостность культуры, роль же — лишь один из фрагментов культурного поведения. А это означает, что, проживая жизнь, человек проходит чреду ролей. И движение по этой чреде воспринимается архаическим сознанием как космическая закономерность. Роль ребенка и взрослого, роль младшего в семье и патриархального лидера на старости лет. В обществе, практикующем жертвоприношения, для палача справедлива и естественна инверсия палач/жертва. Эта логика, больше, чем многое другое, задавала сам механизм конвейера. Ожертвление палача воспринимается массой как акт справедливости. В архаическом сознании живет идея: в идеале, «по справедливости», Человек Власти должен однажды отринуть власть и пережить судьбу ему подвластного. По этой модели написаны некоторые из житий. Отсюда, например, мифология Федора Кузьмича. С этим связан и уход властителей в монахи (за пять минут до смерти) как знаковый акт воплощения идеального пути.
Описанный нами процесс не распространяется на тотем или Самого, однако обстоятельства смерти Сталина дают достаточно оснований для раздумий. Слишком вовремя он погибает. Если это было убийство, значит Сталин попал все-таки в конвейер, который миллионами воспринимался как его порождение. В рамках предлагаемой концепции конвейер возникает в ходе процесса самоорганизации. Сталин лишь оседлал этот процесс, так же, как процесс перехода власти к аппарату. В равной мере справедливы высказывания: Сталин создал аппарат, и аппарат создал Сталина; Сталин развернул большой террор, и террор сформировал Сталина. Когда активная фаза самоистребления себя исчерпала, а вождь оказался не способен это осознать, в аппарате сложились силы, способные убрать Сталина и перевести процесс в спокойное русло255.