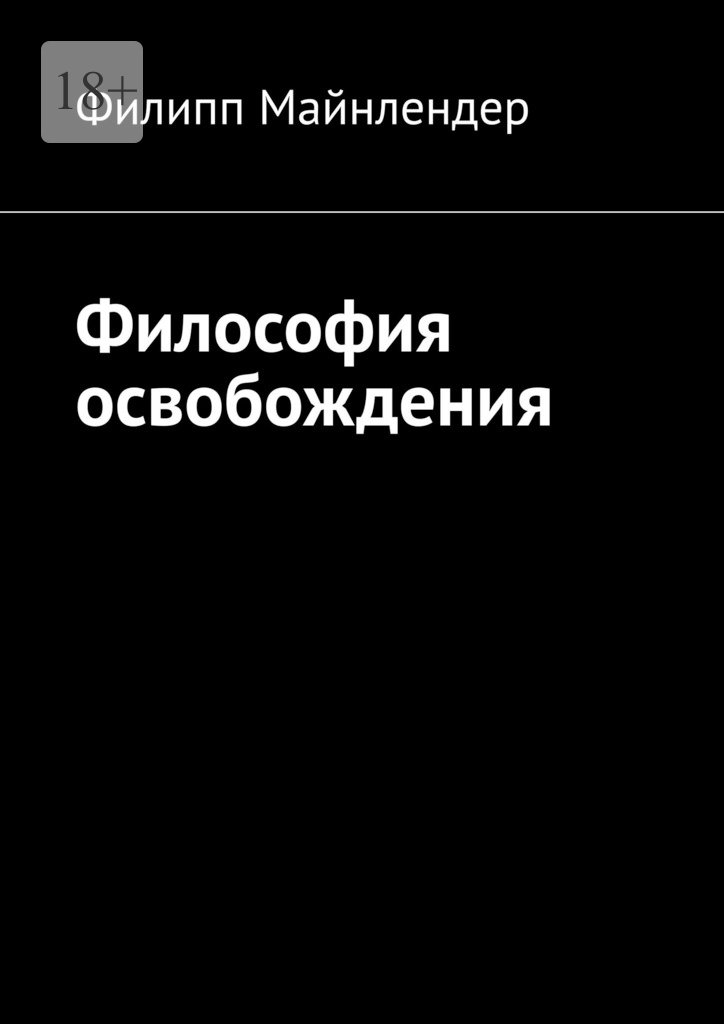были заставить его поезд мысли полностью колебаться. Это колебание туда-сюда должно быть тем более четко отражено в его стиле, который ясен и чист. И действительно, внимательный читатель вскоре заметит, что философ, который всегда выглядел твердым и подтянутым, грубым и колючим, не был внутренне тверд и ясен с самим собой. Эта неопределенность мысли очень бросается в глаза и сразу же ощущается всеми в трактате «О смерти и ее отношении к неразрушимости нашего бытия». Но наиболее ощутимо это проявляется в главе о судьбе, особенно на страницах 221 и 222, где идея выдвигается, но тут же ограничивается; ограничение затем оправдывается, но тут же снова снимается, и эта игра повторяется несколько раз. Скелет нанизанных друг на друга предложений, или шаги шатающегося философа, грамматически представлены следующим образом:
Здесь, как и было обещано, я также хочу завернуть маленький букетик «На самом деле», который очень четко покажет неуверенность Шопенгауэра..
– Материя на самом деле является волей;
– вещь сама по себе не имеет ни протяженности, ни длительности;
– единство воли не может быть постигнуто нашим интеллектом;
– народы на самом деле являются просто абстракциями;
– форма и цвет фактически (фундаментально) не принадлежат идее;
– пространство на самом деле (строго говоря) так же чуждо идее, как и время;
– не форма, а выражение – собственно, идея;
– познающий на самом деле имеет в своем собственном бытии только видимость;
– в истории у нас перед глазами фактически всегда одно и то же;
– смерть – это на самом деле цель жизни;
– предметом великой мечты жизни на самом деле (в определенном смысле) является только одна вещь: воля к жизни;
– на самом деле, моя философия не обращается к каким-то внемировым вещам, а является имманентной.
Красивая дюжина!
Если Шопенгауэр проявляет себя, с одной стороны, как честный натуралист, а с другой – как амфибия: наполовину натуралист, наполовину трансцендентальный философ, он также предстает в третьей форме, а именно как чистый метафизик, особенно в области животного магнетизма. Здесь он отпускает себя на волю с искренней радостью, con amore, и безрассудно следует велению своего сердца.
Все, эфемерное
Это всего лишь притча;
Ненадлежащие,
Здесь всё вторично;
Неописуемое,
Тут предстаёт;
Нас вечная женственность
За собою влечёт.
(Гёте.)
Он учит нас, что явления животного магнетизма являются:
Так же как в сомнамбулическом ясновидении происходит приостановка индивидуальной изоляции познания, здесь также может произойти приостановка индивидуальной изоляции воли.
(W. i. d. N. 102.)
Он без колебаний говорит:
Невозможно предугадать, почему существо, которое все еще каким-то образом существует, не должно также каким-то образом проявлять себя и оказывать влияние на другое существо, хотя и в другом состоянии.
(Parerga I. 325.)
Мы должны были бы объяснить дело таким образом, что в таких случаях воля умершего все еще была бы страстно направлена на земные дела и теперь, в отсутствие всех физических средств воздействия на них, прибегла бы к магической силе, на которую он имеет право в своем первоначальном, т.е. метафизическом качестве, следовательно, в смерти, как и в жизни.
(ib. 326.)
Однако он относится к «происшествиям, о которых рассказывают и молятся со столь многих и столь разных сторон» крайне сдержанно, даже делает вид, будто они вообще невозможны, но на дне его души лежит, ясно для любого, кто захочет увидеть, непоколебимая вера в сверхъестественные силы. Причина, по которой он не стал открыто исповедовать свою веру, заключалась в том, что он прекрасно понимал, что на карту поставлена его научная репутация, а самым сильным мотивом, как всегда, является победа.
Трансцендентальный догматизм Шопенгауэра основан на трех немыслимых фантазиях: на
– реальная материя,
– единая неделимая воля в мире или за миром;
– идеи,
подобно Троице: Отец, Сын и Святой Дух, или индийской Тримурти. Сходство с христианской Троицей особенно велико, поскольку, как известно, Святой Дух должен исходить от Отца и Сына, а, согласно Шопенгауэру, Идея должна представлять себя в материи, как ее качество.
Давайте предадим забвению эти ошибки гениального человека.
Все религии мира, все космогонии и тайные доктрины, как прошлые, так и настоящие, все философские системы содержат только то, что человек нашел в себе и из себя. Либо изначальный принцип – это пространство и время (религия Зенд), либо материя и сила (Конфуций), либо дух, материя, время и пространство (египтяне), либо бытие (брахманизм, элеаты, Платон), либо становление (Гераклит), либо субстанция (пантеисты), либо сила, дух (иудаизм), либо воля (мистики, Шопенгауэр), либо индивидуальность (Будда) и так далее.
Человек всегда помещал в мир, или за ним, или над ним элемент своей личности, который, однако, он часто умел расширять, раздувать, приукрашивать, очищать, обобщать так фантастически, что его едва можно было узнать.
Среди всех религий две отличаются тем, что их центр тяжести находится в центре истины, в индивидуальности: подлинное христианство и учение сына индийского царя Сидхартты (Будды). Эти столь различные доктрины сходятся в главном и подтверждают очищенную мной шопенгауэрианскую философскую систему, поэтому сейчас мы хотим кратко рассмотреть их, а именно: первую в той форме, которую придал ей благородный Франкфуртер в «Немецкой теологии» (Штутгарт, 1853), потому что в последней индивидуальность отражена гораздо чище, чем в Евангелии.
Прежде всего, Франкфуртер отличает Бога как божество от Бога как Бога.
Бог как божество, которому не принадлежит ни воля, ни знание, ни откровение, ни это, ни то, что можно назвать, или говорить, или думать. Но Богу как Богу принадлежит то, что Он должен говорить Сам, и исповедовать Сам, и любить Сам, и открывать Сам Себя, и все это без творения. И все это по-прежнему в Боге как в существе, а не как в действии, потому что Он без твари; и в этом произнесении и раскрытии заключено личное различие.
(117.)
И теперь, совершая огромный скачок от потенции-бытия к акту-бытию, он говорит:
Бог хочет, чтобы то, что в Нем по сути своей не имеет творения, работало и практиковалось. А как должно быть иначе? Должен ли он работать на холостом ходу? Какая от этого польза? Это было бы так же хорошо, нет, и это было бы лучше: ведь то, что хорошо для ничего, напрасно, а это не то, чего хотят Бог и природа. Ну что ж! Бог желает, чтобы это происходило и происходило, и это не может быть без творения, чтобы это было так. Если не будет ни того, ни другого, ни третьего, и не будет ни работы, ни действенности и т.п., то чем тогда будет или должен быть сам Бог, или чем он будет измерять Бога?
(119.)
Отличник здесь в ужасе. Он смотрит в бездну и с трепетом возвращается из глубины со словами:
Нужно вернуться сюда и остаться, ибо так хочется продолжить и исследовать это, что не знаешь, где оказаться и как вернуться.
С этого момента он остается на реальной земле, и начинается самая важная часть его учения.
Правда, он имеет идеалистический оттенок (любой пантеизм – это обязательно эмпирический идеализм) в том, что он объявляет существа просто видимостью:
Но он не идет по ложному пути и тут же сворачивает на правильный. На ней он находит то, что вообще можно встретить только в природе, – главную причину, ядро всех существ: реальная индивидуальность, или единая воля.
Во всем, что есть, нет ничего запретного и нет ничего, что противоречило бы Богу, кроме одного: собственной воли человека или того, что он должен желать иначе, чем по воле вечной.
(203.)
Что дьявол сделал по-другому, или чем отличалось его падение или отклонение, кроме того, что он предположил, что он тоже был чем-то, и что-то было его, и что-то также принадлежало ему? Это предположение было его падением.
(9.)
Что еще сделал Адам? Они говорят: поскольку Адам съел яблоко, он должен был погибнуть или пасть. Я говорю: это