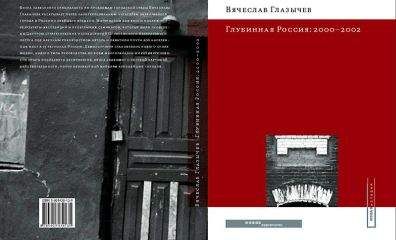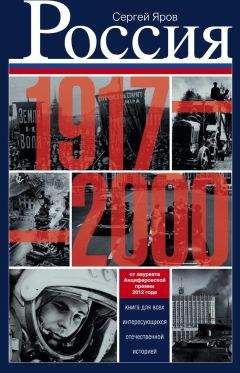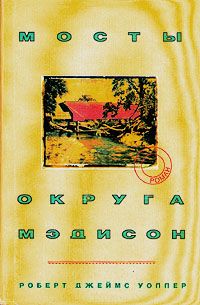Заметим, что, как ни парадоксально, но «сталинские» города, созданные преимущественно рабским трудом заключенных, в форме своей несут больше человеческого начала, чем города куда более либеральной брежневской поры: нормальных пропорций и размеров дома, нормальных габаритов дворы. Дело не в идеологии, а в том, что когда форма города лишь имитируется, и поселение создается не взаимодействием сил в социально-экономическом поле, а казенной волей, решение естественно передать тем, кого по традиции определяют специалистами по городской форме — архитекторам. Архитектор же, предоставленный сам себе, способен либо по инерции воспроизводить некие «городские», т. е. европейские стереотипы, пока ощущает себя преемником всемирной истории городских форм, либо увлекается отчаянным абстракционизмом, если его связанность с культурой формы оказалась разорвана.
При одной лишь имитации формы города происходит натуральное высвобождение от последних следов реальности человеческого существования, и создание произвольных композиций в почти картографическом масштабе не сдержано почти ничем. Поскольку размеры тела архитектора относительно постоянны, а изображать планировку города принято на доске, легко понять, что технически невозможно работать на планшете с габаритами более 3 х 3 м. Чтобы поместить сверхслободу на таком планшете, остается уменьшать масштаб изображения и рисовать форму города в масштабе 1:10000. В таком масштабе обычная улица шириной метров 20 должна быть представлена линией в 2 миллиметра, т. е. быть едва различимой с той дистанции, с которой принято глядеть на генеральные планы при обсуждении с экспертами или во время визита начальства. Вполне естественно воспроизводить «форму проспекта» для главной улицы, придавая ей ширину 300 м, соответствующих размеров «форму площади». Последняя же определялась для столиц требованиями военных парадов. Поскольку же, в свою очередь, кроме партийно-советского дома и Дворца культуры, зал которого был необходим для проведения партконференций, более никакое «общественное» строительство не финансировалось, в гигантской слободе воцарялся пустырь — форма пустыни или «дикого поля»[43].
Впрочем, здесь нет качественной новизны. Перепланировка поселений под европейскую «форму города» при Екатерине Великой и Николае Первом также велась по планам, составляемых в отношении лишь к листу бумаги — нередко срочно и заочно. О площади Тихвина уже говорилось, но ведь и при устройстве главных площадей Полтавы или Петрозаводска только лишь изображалась «форма площади», круг в первом случае, овал во втором. Если петрозаводский овал был окаймлен хотя и низковатыми, но всё же соответствующими месту зданиями присутственных мест и губернаторского дома, то в Полтаве посреди города была создана своего рода модель поля, словно напоминающая о том, что наши предки некогда удалились в леса именно из степи, уступив «поле» натиску кочевников. И тогда причина была сугубо инструментальна. При изображении кварталов очередной новой «формы города» было ясно, что изображается интервал между проездами, которому предстояло быть заполненным огородами на три четверти. Под второстепенную площадь изымался один прямоугольник квартала, под главную — два или четыре. Круг, овал или трапеция слегка усложняли задачу, но не слишком.
Слобода, довольно успешно имитирующая форму города, — одно из оснований иллюзорной вещественности российского нонурбанизма. Несколько сложнее, на первый взгляд, обстоит дело с древними, разраставшимися поселениями, форма которых отразила наслоения многих времен, что и породило немало иллюзий.
Конечно же, первенство здесь бесспорно принадлежит Москве, которую в конце XV в. заезжий итальянец Амброджо Контарини весьма удачно определил как terra di Moscovia, ясно отличая ее от il Castello, т. е. от Кремля. Заметим, что лишь в завещании Ивана Третьего Москва была впервые определена как вотчина наследника престола, хотя в действительности земельные отношения долго оставались запутанными. При самом же строителе Успенского собора стольный град всё ещё был рыхлым скоплением вотчинных владений не только членов обширного великокняжеского дома, но и служилых князей, и старомосковского боярства, и новых бояр, прибывших в Москву вместе с бывшими удельными князьями. При каждом из таких княжеских или боярских домов возникали, не говоря уж о полях, лугах и огородах, и собственные ремесленные слободы. Позднее шаг за шагом происходило выдавливание, так что монопольная позиция Двора с большой буквы была закреплена — не столько, впрочем, за счет некой радикальной перепланировки, сколько через отъем или переем собственности, с компенсацией или без компенсации.
Так или иначе, но и во времена первых Романовых стольный град был необычайно широко раскинувшейся агломерацией усадеб и слобод, разделенных полями, вспольями и лугами. Если за пару столетий Китай-город всё же стал своего рода «даунтауном», частично воспроизводя не только форму, но и структуру бытия европейских аналогов, то иноземный Кукуй, а затем и петровское Лефортово или Преображенская слобода оставались своего рода островами, а на Белый Город европеизация смогла всерьёзосягнуть только после наполеоновского пожара. Не лишено интереса проследить, с какой последовательностью terra di Moscovia продолжает воспроизводить собственную структуру, несмотря на смену веков и режимов. Популярное в прошлом веке суждение о Москве как большой деревне неверно по существу — она и была и всё ещё остается рыхлой агломерацией обособленных слобод (частью агропромышленных, как Измайлово или Коломенское, промышленных, как Гончары или нижняя Яуза, полупромышленных-полупустырных, занимающих до 40 % площади юридического города), а также «сел», жилых или спальных, к которым уже в наши дни все добавляются новые. Обрастая Теплым Станом и Битцей, Жулебиным и Южным Бутовым и пр. и пр., terra di Moscovia продолжает наползать на Московский Край, очевидным образом стремясь поглотить его весь без остатка.
Москвичи были не более горожанами, чем обитатели других поселений России, и всё же статус существования горожан в российском пространстве не столь уж прозрачен. Вроде бы, постоянно стремясь руководить поведением каждого податного индивида в полноте, российская система власти упорно не желала смириться с необходимостью нести расходы по осуществлению этой, четко выраженной воли. Уже поэтому, перелагая бремя расходов на ту или иную ассоциацию индивидов, начиная с деревенской «верви» (позже, уже во время реформ графа Киселева переименованной в «общину»), власть явочным порядком признавала за индивидом изрядную толику самодеятельности. Естественно при этом, что ключевым условием устойчивого в самой своей неустойчивости порядка вещей являлось (да и сейчас во многом является) высокая степень неопределённости любых формальных норм. Для власти в такой неустойчивости была и есть масса достоинств, так как при этом исключается сама возможность соотносить последующие деяния с предыдущими по единому основанию, а вместе с этим исключается и возможность внятной критики[44]. Но у нее была и есть оборотная сторона в том, что, изустно утверждая единство воли, власть негласно принимала — в форме обычного права — неопределённость обязанностей всех податных существ вне отправления податей и повинностей.
Не так уж много получалось из блистательно каталогизованных Салтыковым-Щедриным героических усилий власти предержащей не отпускать вожжи ни на единый миг. Со времен Елизаветы Петровны верховная власть приказывала населению Москвы не расти — с известным результатом. Стремясь сохранить от сокращения численность податного населения и притом тяготея к упрощению расчетных процедур, власть пыталась блюсти, чтобы всяк был занят исключительно приписанным ему делом. Крестьянам воспрещалось торговать, однако частота угроз в адрес «торгующих крестьян» в указах властей со всей ясностью показывает, что это лишь традиционный для России способ управления посредством заклинаний, отнюдь не изжитый и в наши дни. Стрельцам полагалось совершенствоваться в военном ремесле, однако же, поскольку выплата им жалования регулярно задерживалась, власти смотрели сквозь пальцы на мирные ремесленные и торговые занятия стрельцов. Податные ремесленные слободы поднимали в связи с этим несусветный вопль протеста против некорректной конкуренции — с тем же эффектом, что и нынешние протесты торговцев против коммерческих операций под прикрытием государственных, муниципальных или благотворительных вывесок. Купцы, в свою очередь, по мере сил старались избежать того, чтобы их записали в «сотню» (с Петра — в гильдию). Мало того, что за эту честь требовалось немало заплатить, так ещё и была опасность того, что жертву могли выбрать старшиной, что ничего, кроме неприятностей, не обещало, тогда как экстраординарные поборы были столь же уверенно предсказуемы, как нынешние повышения тарифов.