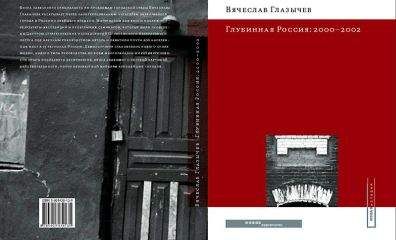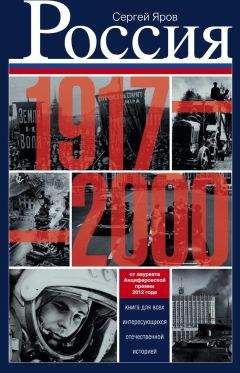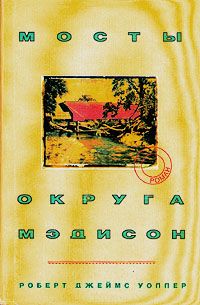Подобно тому, как smile, please рано или поздно порождает привычку учтиво улыбаться, встречаясь взглядом с другим человеческим существом, военные парады и во всем им уподобленные «градские» празднества, навык чтения газеты и глазения на зрелища, приученность к аккуратности иноземца, с утра пораньше открывающего свой «васиздас» — все это породило новую пространственную геометрию культуры с необычной, чрезвычайной скоростью, всего за пару поколений. Нравилось это или не нравилось, но пришлось привыкнуть к тому, что «в центре» страны находился петербургский двор и мещанская толпа, его обслуживающая и его озирающая. Толпа, познающая толк в моде — в моде на все и вся. Злой и наблюдательный критик Филипп Филиппович Вигель оставил нам несравненные в язвительной точности описания этой страсти к имитации образца. Цитировать Вигеля невозможно, так как его надо читать целиком, что облегчено теперь двумя переизданиями записок. На протяжении всего девятнадцатого века массив мемуаристики нарастает с каждым десятилететием, и все это информационное богатство свидетельствует о том, что из механического воспроизведения придворных артикулов шаг за шагом вырастала авторская имитация — сначала ритуала (отсюда крепостные театры и парадные выходы к гостям), затем убранства, затем уже музицирования, занятия живописью и литературой. Все это любопытнейшим образом было распределено в пространстве. Двор как реальность и удаленный идеал соотносится с поместьем, которое, после опубликования указа о вольности дворянства приближалось к тому, что в Англии именуется manor house, тогда как городская усадьба оставалась всё ещё сезонной городской квартирой, не более. Но и не менее.
Здесь мы соприкасаемся с предметом, нуждающимся в пристальном внимании. Культурные ценности транслируются в особом, сложно организованном пространстве. Одну его структуру можно именовать казенной — отношения между индивидами и целыми семейными кланами отстраиваются в ней относительно табели о рангах и правил игры, задаваемых Двором и личными склонностями государя. Это отношения служебно-светские, формализованные, отстроенные в Петербурге как единственном центре (иными словами, здесь Пушкин означен как камер-юнкер[51]). Другую структуру можно именовать соседской — отношения между индивидами и семейными кланами отстраиваются в ней в первую очередь от физической сближенности помещичьих усадеб в необозримом пространстве страны и уже только во вторую — от зимней сети контактов в городе (здесь Пушкин означен как владелец Михайловского и квартиросъемщик). Казалось бы, ничего специфического здесь нет, ведь сезонные перемещения образованного сословия из города и в город были нормой для всей Европы до того времени, когда торжество капитализма захватило в свою орбиту и само время, назначив для досуга лишь несколько недель. Однако все то же специфическое обстоятельство российской сверхпротяженности путей придало нормальному процессу совершенно особое качество. Достаточно вчитаться в страницы «Багрова внука» Аксакова или в начальную главу мемуаров князя Кропоткина, чтобы в полноте ощутить значимость великих сезонных переселений в дальние поместья и обратно. Переход из одного мироустройства в другое был столь растянут во времени, что мы имеем дело не столько с преодолением пространства, сколько с растворением в нем через ступенчатую метаморфозу, начинавшуюся сразу за городской заставой.
Взаимодействие казенной[52] и соседской структур было естественным и неизбежным, ибо различные ролевые позиции замыкались на тех же индивидах, однако в абсолютном выражении первой структуры обязывала схема подчинения единому Pater Patriae и Pater Familia по совместительству, тогда как во второй отношения вырабатывались ещё и лично, иногда даже личностно. В первой структуре дистанцированность от плебса была тем полнее, чем сильнее провозглашалась официальная «народность», во второй говорить о дистанцированности не приходится ни в коем случае. Здесь трансляция смыслов и знаков осуществлялась в оба направления: от бар к дворне и ее крестьянской родне и в обратном направлении. Наконец, в городской усадьбе и тем более в квартире, переполненной дворней, обе ролевые структуры неизбежно сложным образом соприкасались и взаимодействовали, уже тем закладывая основы разночинной культурной метизации со всей ее взрывоопасностью.
Крепостным мастерам с немалым трудом удалось разучить дизайнерские схемы мебели и посуды, и лишь затем детали «античного» декора восхитительным образом воспроизводились в убранстве крестьянских изб и мещанских домов, а саксонские статуэтки «копировались» в форме расписных глиняных фигурок, вроде Дымковских. Все это в усадьбе, тогда как в городском жилище, упорно остававшимся вторым домом, все было стандартнее и беднее, о чем свидетельствуют не только мемуары, но и уцелевшие квартиры-музеи.
Пожалуй, всё же разночинный меланж, эта странная смесь семинарских предрассудков с осколочным уподоблением дворянским образцам, лучше всего объясним реакцией отторжения на фантом городского, буржуазного уюта, каковой с немалым удовольствием воспринимали во время пребывания за границей, но вместе с тем и ненавидели. Такое отторжение давалось тем легче, что ненавистный призрак как-то объединялся в сознании «критических реалистов» с вполне реальным образом слободского приказчика-хама, в грядущем переросшего в охотнорядского черносотенца. Не лишено занятности, что те самые кофейни и кондитерские, что в Европе были прибежищем классического мещанского люда, в Петербурге или в Москве становились вполне бомондными местами, тогда как разночинцы по преимуществу теснились в одних трактирах с младшими приказчиками, не объединяясь с ними психологически. Во всей т. н. физиологической прозе, и в особенности у писателей второй руки, которым не хватало претензий на самостоятельную художественную форму, и потому окружающая действительность прорывалась в их тексты сильнее, чем у великих сочинителей, начала городское и слободское приравнены и почти отождествлены. В ряде городских очерков Н.Лескова и, тем более, Н.Успенского и А. Шеллер-Михайлова это проступает с особой наглядностью.
После Великой реформы 1861 г. наблюдается некоторое пробуждение гражданских чувств, проявляющееся не только в новом судопроизводстве, но и в тяготении местных сообществ к тому, чтобы дополнить обычные балы театром, как любительским, так и все чаще профессиональным. Жертвуются собрания в публичные библиотеки и — при сопротивлении или, в лучшем случае, безразличии власти — учреждаются школы и училища. В силу нерегулярности и нередко эфемерности существования, гражданское сообщество это всё же по преимуществу «клуб», растянутый на увядающие усадьбы по соседству и ещё на младшее офицерство полков, расквартированных непременно по городам (феномен тем более важный, что недооцененный и забытый). Иными словами, зарождавшееся культурное движение имело в подавляющей мере запоздало дворянский характер, втягивая в свою орбиту эмансипированную часть купечества, тогда как духовные наследники разночинцев начинают рядиться в простое платье и устремляются в деревни — просвещать мужика.
И вновь мы сталкиваемся с непредумышленной оригинальностью российского пространства культуры. Как бы городская, т. е. в достаточной мере интернациональная культура (даже в суперпатриотических проявлениях, вроде Тенишевского Талашкина) в своих основных компонентах формируется и развивается отнюдь не в городе, а в дачных зонах обеих столиц. Мы имеем дело с мало исследованным феноменом сугубо «дачной» культуры, из которой вырастают уже действительно вполне самостоятельные культурные движения: от Чехова до круга «Мира искусств» и всех авангардистов начала двадцатого века, кроме, разве, одних футуристов. Любопытно, что именно разночинная молодёжь, успевшая преобразоваться в сословие интеллектуалов, с особенной остротой переживания противостоит слободскому началу, предаваясь греху эскапизма во множестве вариаций: от «версальской» вариации А.Бенуа до «парижской» К.Коровина, через «петербуржскую» М.Добужинского, Е.Лансере, А.Остроумовой-Лебедевой или А.Ахматовой и до «балетной» у Л.Бакста или А.Головина. Мир дачи был миром добровольного временного соседства индивидов, что придавало ему призрачные черты свободы досужего общения и самопроизвольного обмена ценностями. Уже в городских, зимних условиях то же дачное сообщество продолжалось, высвобождаясь при этом от неизбежной вынужденности, порождаемой фактом физического соседства и его культурной нагрузки.
Печальным парадоксом можно счесть факт, что именно в тот самый момент, когда отечественная культура приобрела вполне отчетливые признаки городской ее формы, слободская (она же в значительной степени местечковая) контрреволюция большевиков наносит ей удар, от которого та начала оправляться лишь в эпоху «зрелого застоя». Сама городская среда все в большей степени оборачивалась сосуществованием нового кремлевского «двора» с его обособленными от прочих смертных «поместьями», и новым слободским миром припромышленного бытия, интенсивно окрашенного вторжением волн «лимитчиков». Однако при всей своей рыхлости это целое, не успевшее ещё вполне окрепнуть в застывших формах, допустило сложно ассоциированное существование ячеек индивидуально-группового бытия.