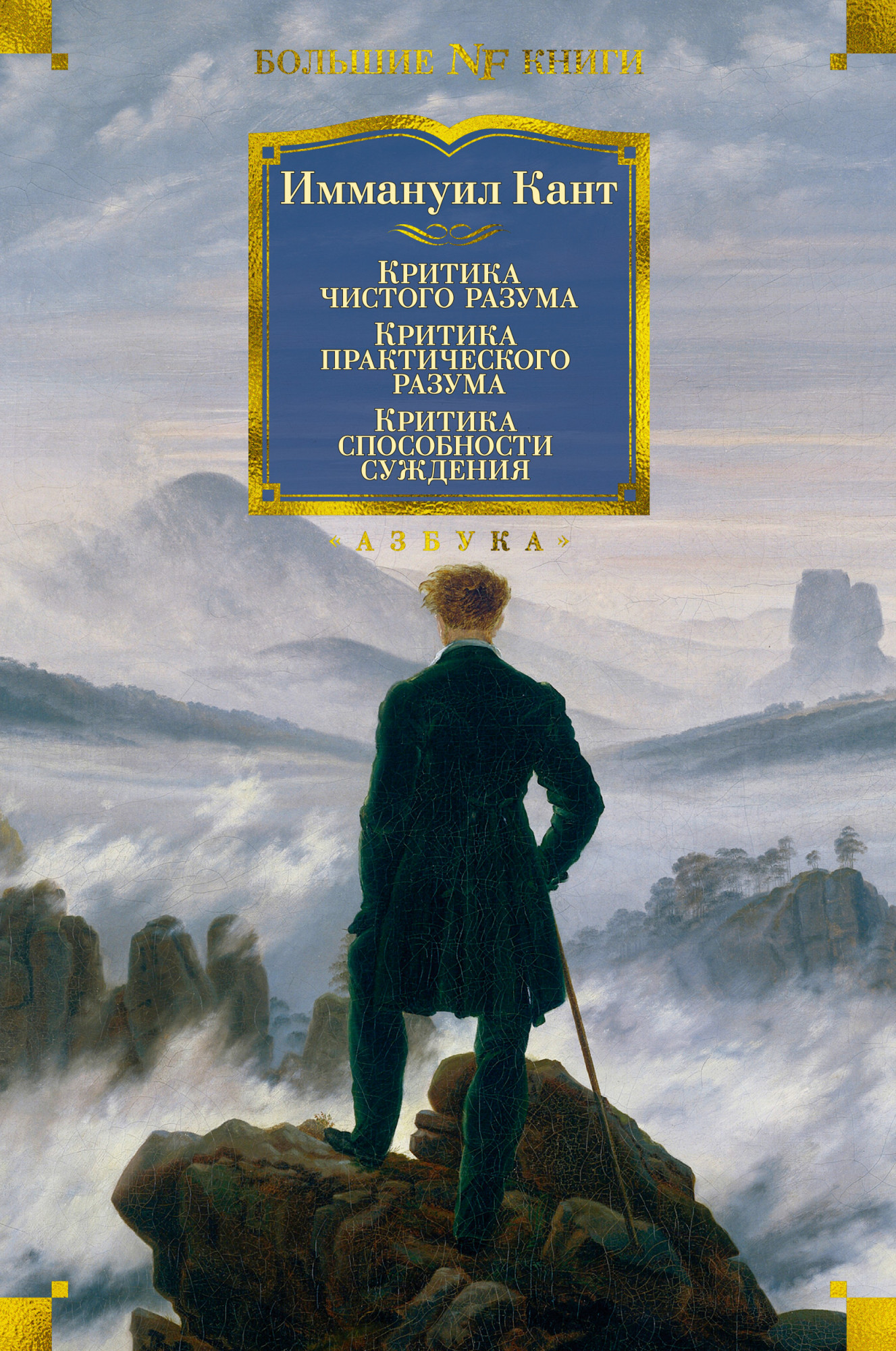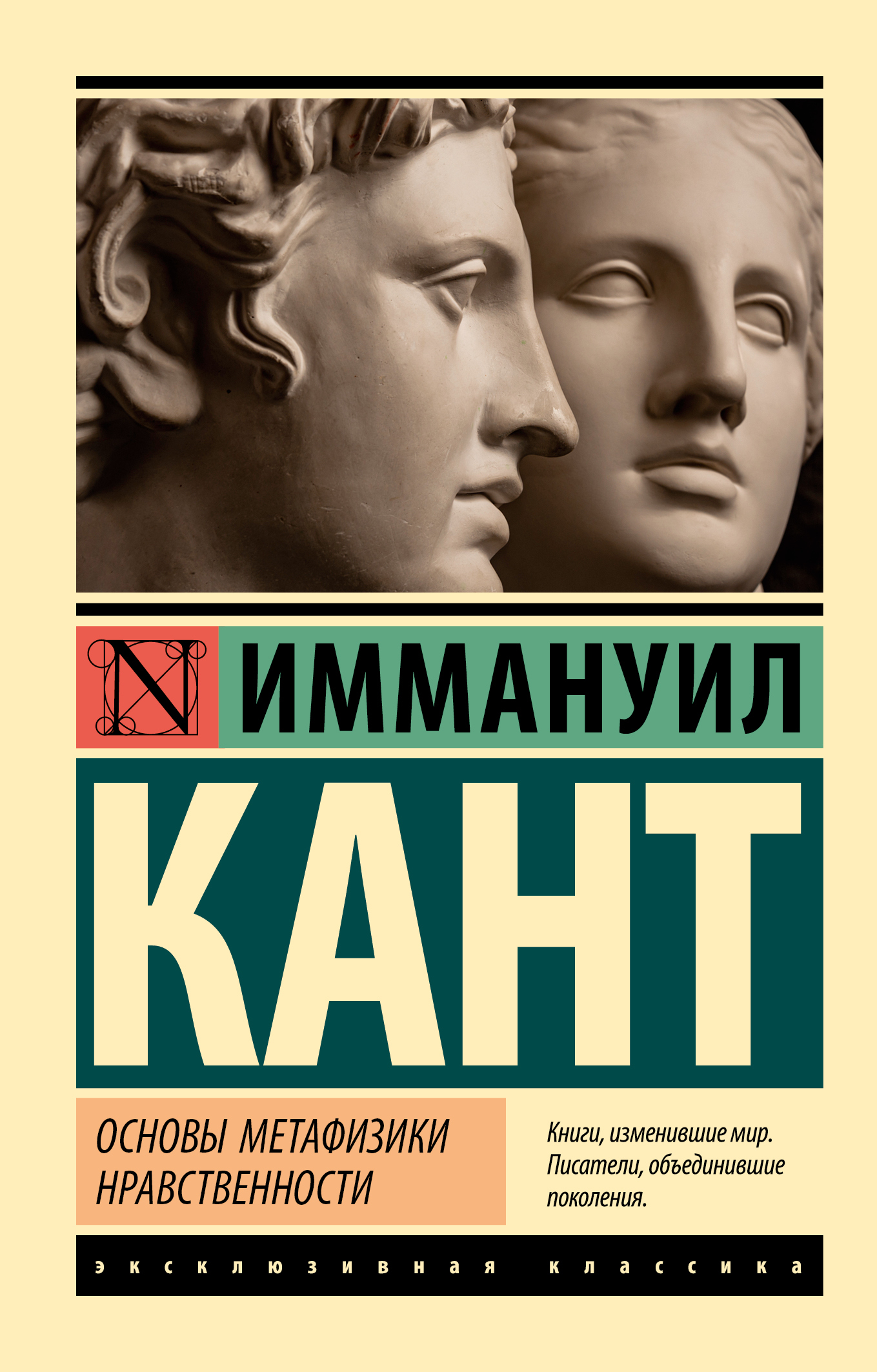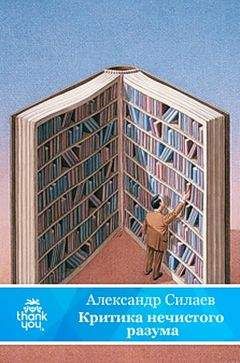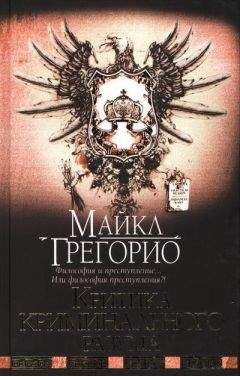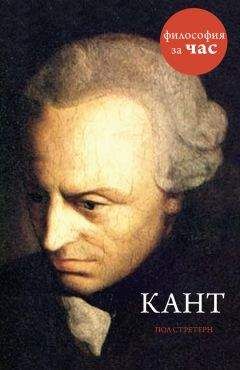изменить прежний способ исследования в метафизике, а именно совершить в ней полную революцию, следуя примеру геометров и естествоиспытателей. Эта критика есть трактат о методе, а не система самой науки, но тем не менее в ней содержится полный очерк метафизики, касающийся вопроса и о ее границах, и о всем внутреннем ее строении. В самом деле, чистый спекулятивный разум имеет ту особенность, что он может и должен по-разному измерять свою способность сообразно тому, как он выбирает себе объекты для мышления, перечислять все способы, какими ставятся задачи, и таким образом давать полный набросок системы метафизики. Действительно, что касается первой задачи, то в априорном познании может быть приписано объектам только то, что мыслящий субъект берет из самого себя; что же касается второй задачи, то разум, когда он касается принципов познания, представляет собой совершенно обособленное и самостоятельное единство, в котором, как в организме, каждый член существует для всех остальных и все остальные – для каждого, так что ни один принцип не может быть взят с достоверностью в одном отношении, не будучи в то же время подвергнут исследованию во
всяком отношении его ко всем областям применения чистого разума. Благодаря этому метафизика имеет редкое счастье, которое не выпадает на долю других основанных на разуме наук, имеющих дело с объектами (так как
логика имеет дело только с формой мышления вообще). Это счастье состоит в том, что если метафизика вступит благодаря этой критике на верный путь науки, то она сможет овладеть всеми отраслями относящихся к ней знаний, стало быть, завершить свое дело и передать его потомству как капитал, не подлежащий дальнейшему увеличению, так как метафизика имеет дело только с принципами и с ограничиванием их применения, определяемым самой этой критикой. Поэтому она, как основная наука, должна обладать такой завершенностью, и о ней можно сказать: nil actum reputans, si quid superesset agendum.
Но нас, вероятно, спросят: что за сокровище мы намерены завещать потомству в виде метафизики, очищенной при помощи критики и приведенной таким образом в устойчивое состояние? При беглом обзоре этого сочинения может показаться, что оно имеет только негативную пользу, заключающуюся в том, что предостерегает нас против попыток выходить за пределы опыта при помощи спекулятивного разума. Прежде всего в этом польза нашего сочинения. Но эта польза становится положительной, как только убеждаются в том, что основоположения, посредством которых спекулятивный разум отваживается выйти за пределы опыта, на деле имеют своим неизбежным результатом (если присмотреться пристальнее) не расширение, а сужение применения нашего разума, так как эти основоположения, принадлежа, собственно говоря, к сфере чувственности, на самом деле угрожают безмерно расширить ее границы и таким образом вообще вытеснить чистое (практическое) применение разума. Поэтому критика, поскольку она ограничивает чувственность, правда негативна, но так как она тем самым снимает препятствие, которое ограничивает или даже грозит вообще упразднить практическое применение разума, то в действительности она приносит положительную, и весьма существенную, пользу, если только убеждаются в том, что существует безусловно необходимое практическое (нравственное) применение чистого разума, при котором разум неизбежно выходит за пределы чувственности, и, хотя для этого он не нуждается в помощи спекуляции, все же должен оградить себя от ее противодействия для того, чтобы не впасть в противоречие с самим собой. Отрицать эту положительную пользу критики – все равно что утверждать, будто полиция не приносит никакой положительной пользы, так как главная ее задача заключается в предупреждении насилия одних граждан над другими для того, чтобы каждый мог спокойно и безбоязненно заниматься своими делами. В аналитической части критики доказывается, что пространство и время суть только формы чувственного созерцания, т. е. только условия существования вещей как явлений; далее, что у нас есть рассудочные понятия и, следовательно, элементы для познания вещей лишь постольку, поскольку могут быть даны соответствующие этим понятиям созерцания, и, стало быть, мы можем познавать предмет не как вещь, существующую саму по себе, а лишь постольку, поскольку он объект чувственного созерцания, т. е. как явление. Отсюда необходимо следует ограничение всякого лишь возможного спекулятивного познания посредством разума одними только предметами опыта. Однако при этом – и это нужно отметить – у нас всегда остается возможность если и не познавать, то по крайней мере мыслить эти предметы также как вещи сами по себе [6]. Ведь в противном случае мы пришли бы к бессмысленному утверждению, будто явление существует без того, что является. Теперь допустим, что сделанное нашей критикой необходимое различение вещей как предметов опыта и как вещей самих по себе вовсе не было сделано. В таком случае закон причинности и, стало быть, механизм природы должны были бы при определении причинности непременно распространяться на все вещи вообще как на действующие причины. Тогда нельзя было бы, не впадая в явное противоречие, сказать об одной и той же сущности, например о человеческой душе, что ее воля свободна, но в то же время подчинена естественной необходимости, т. е. не свободна. [Противоречие здесь возникло бы] потому, что в обоих утверждениях я беру человеческую душу в одном и том же значении, а именно как вещь (Ding) вообще (как вещь (Sache) саму по себе)15, и не мог брать ее иначе, не прибегнув предварительно к критике. Но если критика права, поскольку она учит нас рассматривать объект в двояком значении, а именно как явление или как вещь саму по себе; если данная критикой дедукция рассудочных понятий верна и, следовательно, закон причинности относится только к вещам в первом значении, т. е. поскольку они предметы опыта, между тем как вещи во втором значении не подчинены закону причинности, – то, не боясь впасть в противоречие, одну и ту же волю в [ее] проявлении (в наблюдаемых поступках) можно мыслить, с одной стороны, как необходимо сообразующуюся с законом природы и постольку не свободную, с другой же стороны, как принадлежащую вещи самой по себе, стало быть, не подчиненную закону природы и потому как свободную. Если свою душу, рассматриваемую как вещь саму по себе, я не могу познать посредством спекулятивного разума (и еще менее – посредством эмпирического наблюдения), следовательно, не могу также познать свободу как свойство сущности, которой я приписываю действия в чувственно воспринимаемом мире по той причине, что я должен был познавать такую сущность как определенную по ее существованию, но не во времени (что невозможно, так как я не могу заменить мое понятие созерцанием), – то я все же в состоянии мыслить свободу, а это означает, что представление о ней по крайней мере