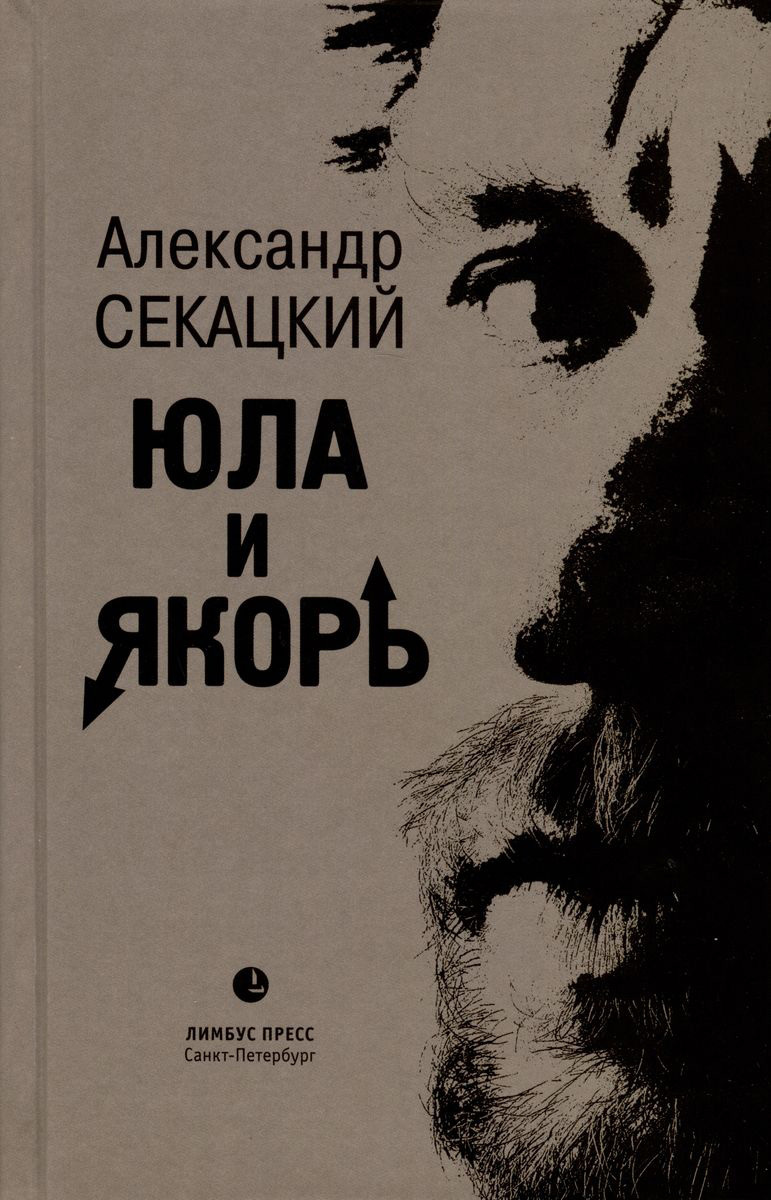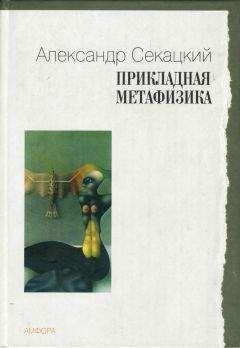проник Достоевский, который заметил, что, когда душа уже отлетела, но не воплотилась ни в какую объективацию, остается еще некий заряд активности, точнее анимации, которому писатель дал имя «бобок». И вот получается, что эти беспокойники, аниматоры собственной замаскированной плоти, довольно успешно внедрились в ряды действительно живущих. И это свидетельствует о том, что многомерный мир души может быть подменен работой простой анимации, и пользующихся подменой, имитируемой душой, не всегда можно сразу отличить.
А что, интересно, тут сказал бы Заратустра, неустанно обличавший тех, живущих в склепах, добровольных пленников духа тяжести? Тех, уставших от жизни еще до своего рождения? Тех, кто так заботился о мощах и останках, что и свое тело готов был воспринимать как потенциальные мощи? Не задумался ли бы он о великой теме неравенства мертвых, по сравнению с которым все неравенство живущих пребывает в довольно узком диапазоне?
Можно призадуматься, а чего потребовал бы, например, Бог мертвых от своих подданных? Разве не покоя потребовал бы он от них, разве не призвал бы подданных своих быть достойными покойниками? Придерживаться надлежащего покойнику чина? Неизвестно, считал бы этот бог своими праведниками тех, кто прижизненно живет в склепах, но беспокойников, отвергающих свое надлежащее место, он точно считал бы еретиками. Действительно, если царство его день за днем прибывает и мы все там будем, зачем богу-хранителю нарушать порядок прибытия и отпускать своих подданных туда, где они ведут борьбу с посмертием и разрушают каналы коммуникации? То есть, в сущности, подрывают его царство.
Стало быть, то, что мы видим сегодня, – это торжество двойной ереси. Против бога мертвых и праведников его развернулась беспрецедентная за всю человеческую историю травля: их изгоняют из памяти и пытаются стереть все следы их присутствия. Но от этого никакой интенсификации жизни на Земле не происходит. Беспокойники и аниматоры всех мастей способны запустить лишь тот или иной двигательный автоматизм: примитивный видеоряд в искусстве, выхолощенный разговор, в котором практически нет иносказаний, хотя страх ляпнуть что-нибудь не то достиг невероятных пределов, скукоживание философии, примитивизм желаний… Хотя как это? Разве прежние перверсивные желания не признаны теперь повсеместно? Разве они теперь не узаконены, не возведены в ранг неотчуждаемых прав человека?
Так да не так. Они лишены как раз перверсивности и сгруппированы в несколько автоматизированных рядов. Каждый ряд определяет особую половую идентификацию, только и всего, и в рамках легитимированного ряда нет ничего перверсивного.
Так становится ясной главная причина отказа мертвым в коммуникации: чтобы не смущали. Вот модифицированное человечество, включающее в себя поколение хуматонов, получает рассказанные истории и помысленные мысли – в целом поводов испытать свое превосходство предостаточно. А момент смущения – опасного смущения – состоит в прогрессирующей неясности того, что же они, эти представители нового человечества, в себе преодолевали – ведь как раз с этим преодолеваемым и были связаны моменты триумфа очеловечивания.
Ну, скажем, честь, патриотизм, имперские настройки можно дезавуировать в качестве предрассудков, хотя и здесь может возникнуть некоторое беспокойство: «Почему же у меня совсем этого нет?» И даже непонятно, что же тут, собственно, преодолевать… Главной проблемой, однако, оказывается как раз любовь – возникает подозрение, что книги Стриндберга, Мопассана, даже «Красное и черное» Стендаля рискуют вскоре оказаться в ряду самых непонятных книг: о чем они так тосковали, сокрушались и чему так радовались? Откуда столько путаности и нечеткости? Не разобравшись как следует в своемгендере (скажем, если у тебя гендер № 14, зачем стремиться к совершенно неподходящим тебе отношениям?), без надлежащей фармакологической корректировки, вступив на территорию какой-то сплошной нечестности и непрозрачности, зачем обрекать себя на муки? Да еще и быть убежденным, что это и есть жизнь?
Для аниматоров, разумеется, все эти глубины закрыты как китайская грамота. Как просторы объема для обитателей Флатландии. Они, конечно, живчики и через скакалочки могут прыгать неустанно, но при этом способны имитировать лишь внешнюю экспрессию (то, что на плоскости), да и то с некоторой неуверенностью насчет ее соответствия тем или иным внутренним состояниям, которые для них суть по большей части состояния черного ящика. Живчики-аниматоры уверены, что пространство сообщений, передаваемых мертвыми, сплошь и рядом заполнено этими черными ящиками, от Медеи до Грушеньки из «Братьев Карамазовых», от юного Вертера до совсем уж странного Рогожина.
Опять вспоминается рассказ А. М. о ее сыне-аутисте, который никак не мог угадать, над какими ситуациями «эти взрослые» смеются, а над какими скорбят. Однажды, услышав по радио сообщение об автомобильной аварии, в которой оказались разбиты десятки машин, он на свой страх и риск засмеялся – но на всякий случай оглянулся на маму, угадал ли он на этот раз с выбором экспрессии…
Что-то подсказывает, что таких «внедрившихся разведчиков» все больше среди нас.
То, что современность может быть рассмотрена в типажах беспокойников, аниматоров и внедренцев, по-своему подтверждает и Деррида, характеризуя – надо отдать ему должное – самое начало процесса:
«Теперь как никогда прежде мы ощущаем потребность мыслить виртуализацию пространства и времени, возможность виртуальных событий, движение и скорость которых отныне запрещают нам (запрещают в большей степени и иначе, чем когда-либо прежде, потому что все это не является чем-то абсолютно новым) противопоставлять присутствие его репрезентации, “реальное время” – “времени отложенному”, действительность – ее симулякру, живое – неживому, словом, живое – мертво-живому его призраков» [108].
Это мертво-живое (или живо-мертвое), о котором говорит Деррида, и вправду неуклонно повышает свое присутствие в структурах современной социальности, так что аналитика в терминах призраков, фантомов, привидений и беспокойников буквально напрашивается и по-своему многое объясняет. В частности и даже прежде всего – обрушение бинарных оппозиций с их колоссальными запасами потенциальной энергии: господин и раб, сакральное и профанное, мужское и женское, наконец, живое и мертвое. Так, трансгуманизм и акторно-сетевая теория могут быть рассмотрены как участки фронта, на которых сейчас с тяжелыми потерями отступают эшелоны исторического, жертвенного, человеческого и даже слишком человеческого. Их потери – это то, что не вписывается в новый континуум, все, что препятствует затухающим колебаниям маятника души.
Среди прочего это и отсечение сложившейся иерархии мертвых: подвергаются тотальным репрессиям их способы присутствия через опус, включая и опусы памяти. В этом присутствии они всегда были привилегированными собеседниками, неважно, именовались ли при этом предками или, например, классиками. И тут следует напомнить, что сама культура устроена так, что некоторые вещи, при том важнейшие, могут быть транслированы только через классику.
Вспоминается название журнала, издаваемого Екатериной II, – «Почта духов». У этого названия на самом деле есть простой синоним: классика. Ведь классика и есть почта мертвых: ты находишь адресованное тебе