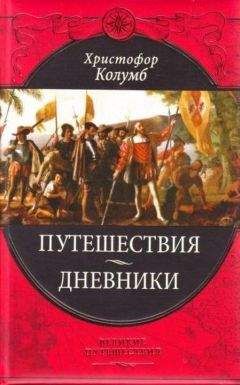Неизвестно, сколько бы времени продолжалась такая “холодная война” между Сашей и Роландом, если бы не случилось событие, оправдавшее самые мрачные предчувствия воспитателя. В один из весенних вечеров, когда солнце еще не село и на улице было тепло, все ребята во дворе играли в лапту. Точнее, почти все — кроме Саши Бутлерова. Роланд дремал на солнышке и, разомлевший, очевидно, не заметил отсутствия одного из своих подопечных.
И вдруг в подвале, где помещалась кухня, раздался оглушительный взрыв. Все так и замерли. Первым понял, что случилось, Роланд. Он бросился на кухню и вытащил оттуда за шиворот Сашу, которого нельзя было узнать — у него были опалены волосы и брови.
Взрыв в пансионе — событие чрезвычайное. Ясно было, что углом или потерей обеда тут уж не отделаться. Для начала Сашу посадили в карцер. А потом собрали педагогический совет — решать, как быть с провинившимся.
Если бы подобное событие приключилось в каком-нибудь другом пансионе, где порядки были построже, не миновать юному химику розог. Но Топорнин был категорически против телесных наказаний, в его пансионе розгами никого не наказывали. Однако надо же было как-то наказать провинившегося, — этак завтра вообще весь пансион взлетит на воздух.
Спорили-спорили, думали-думали и придумали наконец. Кому в голову пришла эта идея? Наверное, Роланду, на него похоже.
И вот представьте себе такую картину. Сидят все, обедают в столовой. И вдруг из карцера приводят в зал Бутлерова. А на груди у него висит черная доска, и на доске мелом крупно написано: “Великий химик”. А у великого девятилетнего химика ни ресниц, ни бровей.
Смешно, конечно.
И, конечно, все смеялись. И, конечно, громче всех Роланд — доволен очень, что такое придумал.
Невдомек ему только, что ничего он не придумал, что мальчик, стоящий посреди зала с дурацкой черной доской на шее и смущенно мигающий остатками ресниц, действительно будущий великий химик, будущая гордость науки русской.
Конечно, если бы пришло такое в голову преподавателям, они не только не стали бы придумывать наказание, а вернули бы Саше его шкафчик, отвели бы ему какой-нибудь ненужный чулан и сказали бы: “Пожалуйста, работай здесь, взрывай что хочешь, жги что хочешь, не бойся повредить ничего, мы новое купим. Твори, развивай в себе любовь к химии, ты же будущий великий химик. Можешь даже не ходить на закон божий, разрешаем тебе, сиди экспериментируй, ты же будущий великий химик”.
Но они и предположить не могли такого. Предполагать — это не их дело. Их дело — воспитывать и учить. Держать в строгости. А насчет всяких там увлечений — это, пожалуйста, подрастай, поступай в университет, там на здоровье увлекайся. Взрывай, жги, разлагай что хочешь — там это даже нужно. А здесь — ни-ни. А кто забалует, сейчас доску на шею — и в залу. Всем на посмешище: смотрите, какой великий нашелся!
А если мальчуган не забудет этого стыда, и навсегда возненавидит химию, и если погибнет в нем будущий великий ученый, так никто же этого не узнает. Зато порядок. В лапту — все играют в лапту. Опыты — все ставят опыты. И никакой личной инициативы. Вот так!
К счастью, Сашу Бутлерова не сломило это наказание. Не пропала у него любовь к химии. Спряталась только на какое-то время — до того дня, когда отец забрал его из пансиона и отдал в четвертый класс гимназии.
Там снова Бутлеров мог продолжить свои химические опыты. Особенно нравилось ему устраивать замысловатые фейерверки в честь окончания очередного класса. Так как пришел он в гимназию только в четвертый класс, до окончания гимназии ему еще не раз представлялась возможность заняться любимым делом.
Последний школьный фейерверк состоялся в 1844 году. В этот год шестнадцатилетний Бутлеров получил аттестат зрелости.
Дальше, как полагается, собрался семейный совет: кем быть? Интересно, что обсуждают здесь разные варианты, называют различные профессии, не произносят почему-то только одного слова — “химия”. Сашин отец, Михаил Васильевич Бутлеров, зная, что у сына большие математические способности, предлагает ему поступить на математическое отделение университета. Однако Саша позволяет себе выступить против родительской воли. Он хочет стать естествоиспытателем, его влечет изучение природы. Заметьте, он тоже ничего не говорит о химии, он говорит о природе вообще.
Это примечательно. Будущий великий химик о химии и не помышляет. Может быть, действительно тот случай в пансионе отбил у него охоту к этой науке?
На первых курсах может показаться, что это именно так. Предмет его нового увлечения совершенно далек от химии. Его страсть — ботаника и зоология. И более всего — бабочки. У него дома между оконными рамами целый зоопарк: морские свинки, мыши, черепахи, ну и бабочки конечно. Но ему мало университетского знакомства с ними, мало ему домашних занятий, он и летом, в каникулы, уезжает в длительные экспедиции. На втором курсе, например, он с группой студентов и профессором объездил Волгу до Каспийского моря, дошел до Урала. За время этой экспедиции Саша собрал огромную коллекцию бабочек — 1133 вида, не считая разновидностей и видоизменений. Причем многие виды до него вообще не были известны.
По всей вероятности, его товарищи были совершенно уверены, что Саша станет зоологом. И они ничуть не удивились, когда в год окончания университета Бутлеров защитил диссертацию на звание кандидата естественных наук по теме: “Дневные бабочки Волго-Уральской фауны”.
И если бы об этом узнал Роланд, он наверняка сказал бы, усмехаясь: “Ну вот видите, какой он химик!”
И ошибся бы.
Потому что уже к этому времени Александр Бутлеров был химиком. Несмотря на своих бабочек, несмотря на свою диссертацию. Несмотря на то, что и через два года после окончания университета он, кандидат естественных наук, читал студентам медицинского факультета лекции по физической географии и климатологии. Несмотря на то, что вскоре в Парижском ботаническом журнале он опубликовал статью “О культуре камелии”. Несмотря на то, что в 1851 году в журнале Пражского общества естествоиспытателей была напечатана его статья: “Об Индерском озере”, за что ее автор был избран членом-корреспондентом этого общества. Несмотря на то, что в это же время в “Санкт-Петербургских ведомостях” появлялись “Отрывки из дневника путешественника по Киргизской орде”. Несмотря на еще десятки статей, выступлений, докладов, на участие в десятках комиссий, посвященных различным ботаническим вопросам. Несмотря на то, наконец, что Александр Михайлович был крупнейшим, — не просто крупным, а я подчеркиваю — крупнейшим русским пчеловодом.
Другому человеку того, что сделал Бутлеров вне химии, хватило бы на целую жизнь; причем на жизнь, увенчанную славой, почетом, признанием. Но для Бутлерова все это было отдыхом, увлечением, хобби, как это теперь называют.
Он вообще был очень разносторонним человеком. Кроме цветоводства и пчеловодства, обожал охоту, верховую езду, был прекрасным садовником. Он вообще все любил делать сам. Даже гантели, которыми упражнялся, он сам выточил на токарном станке. Кстати, Бутлеров, хоть и был человеком умственного труда, любил спорт и был физически очень сильным.
Александр Михайлович мог прийти к кому-нибудь в гости и, не застав хозяев дома, оставить свою визитную карточку в виде кочерги, изогнутой буквой “Б”. Попробуйте, согните ее так.
У себя в лаборатории Бутлеров часто для отдыха выдувал какой-нибудь сложный стеклянный прибор, такой, что и не каждый стеклодув сделает.
Летом в своей деревне Бутлеровке он занимался медициной — лечил окрестных крестьян, вскрывал нарывы, зашивал раны, накладывал повязки. Он и ветеринаром был, если надо.
Вообще по воскресеньям в Бутлеровку, как в больницу, стекались все больные окрестных деревень. Они знали, что и помощь здесь окажут, и денег за это не возьмут. Еще и лекарство дадут бесплатное, приготовленное самим великим химиком.
Эти знаменитые на всю округу “бутлеровские порошки” больные крестьяне иногда продавали на базаре, ибо их целительные свойства ставились выше, чем у тех лекарств, которые готовили в аптеке.
Кстати, Бутлеров был сторонником гомеопатического[2] лечения. В то время, впрочем, как и сейчас, к гомеопатам относились несколько насмешливо, хотя и пользовались довольно часто их услугами. Поэтому Александр Михайлович не очень широко афишировал свою приверженность, хотя и не скрывал ее. Один его ученик, Д. Коновалов, вспоминает такой эпизод. Как-то в праздник, днем, он зашел к своему руководителю по какому-то делу. Александр Михайлович, человек гостеприимный, предложил ему остаться обедать. Коновалов отказался, очевидно из застенчивости, хотя сослался на то, что у него болит живот. А может, у него действительно болел живот, все-таки праздники были. Бутлеров тут же достал из шкафчика какой-то пузырек с гомеопатическим лекарством и предложил выпить его, уверяя, что все пройдет. Коновалов выпил это лекарство и пошел домой. На другой день в лаборатории Александр Михайлович, встретив его, первым делом осведомился: “Ну, как живот, прошел?” — “Прошел, — сказал Коновалов, — но только не знаю, что помогло — лекарство ли или серьезная доза поросенка, которую я дома принял”. Бутлеров ничуть не обиделся, он засмеялся и сказал: “Вот все вы так, пользуетесь новым средством, но всегда готовы поставить его под сомнение”.