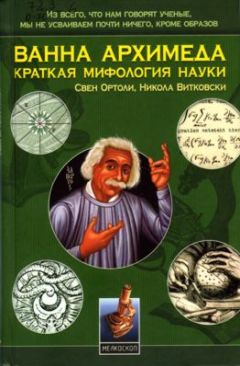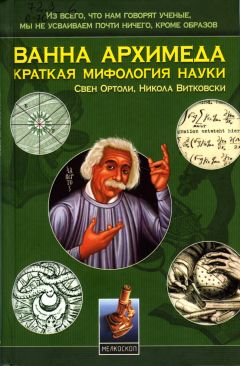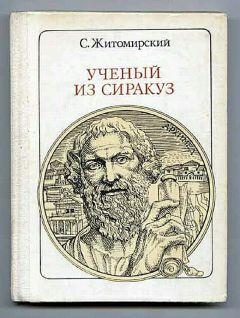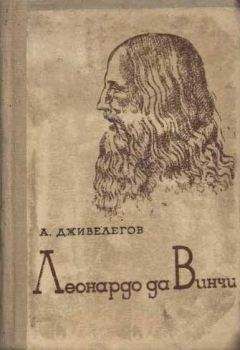Почему «Большой»? И почему «взрыв»? Что касается первого, то с ним все ясно. Возьмите звезду, говорил Эддингтон, умножьте ее в сто тысяч миллионов раз, и вы получите галактику; возьмите галактику и умножьте ее в сто тысяч миллионов раз, и вы получите Вселенную. Невозможно помыслить себе «мышиный пук» в начале такой космической безмерности. Во всяком случае, надо признать, что в эпоху Большой Науки слово пришлось ко двору среди «символов нашего времени», как их называл физик Элвин Вейнберг: ускорителей элементарных частиц, экспериментальных ядерных реакторов и всевозможных космических челноков. «Эти устройства, — говорил он, — выражают собой глубинные ценности и устремления нашей культуры точно так же, как пирамиды и соборы в прежние времена». Заканчивал он предупреждением — а было это в 1961 году, — в котором упоминались три главных бича Большой Науки: деньги, средства массовой информации и администраторы. Чтобы получить деньги, нужны СМИ; чтобы их контролировать, нужна администрация. Отсюда необходимость, с одной стороны, пользоваться птичьим языком, говоря о будущем, и оправдывать колоссальные инвестиции ради узкоспециальных результатов — с другой.
«Взрыв» же не столь прозрачен. Прежде всего этот термин ассоциируется со звуком взрыва, распространяющимся из определенной точки пространства. Однако теория предполагает, что и пространство и время рождаются как раз в этот момент; и вообще, как гласит реклама одного научно-фантастического фильма, «в космосе ваших криков не слышно». В самом деле, звуковые волны не могут распространяться в пустоте. Но в слове Bang содержится и успокаивающий нюанс — звуковой барьер[39]. Мы вспоминаем о нем, глядя, как сверхзвуковой самолет расчерчивает небо белоснежными полосами. Откуда берутся они, откуда приходит этот грохот? Этого мы не знаем, хотя образ так привычен. В мире идей образ Большого взрыва не менее привычен и не менее странен. Раздался он десять, двенадцать или двадцать миллиардов лет назад? Какая разница…
Ага, а ведь было же и начало! Наука нас этому учит, подтверждает нам это, и, если выражение «Большой взрыв» содержит в себе скрытую отсылку к теории, по поводу которой ученые могут многое сказать и многое объяснить, указывая начало с точностью до 10-43 секунды — точнее не позволяет квантовая неопределенность, — тем лучше. Что скрывается за этой ширмой, перст Всемогущего или sensorium Dei[40] милое астрономам, приверженным «принстонскому гнозису»[41], — каждый выбирает по вкусу. Лекция о Большом взрыве для студента колледжа — такое же непреложное откровение, как рассказанная родителями история о начале света для маленького индейца омаха: американский этнолог Александр Элиот утверждает, что в космогонии этого североамериканского племени все живые существа были когда-то бесплотными мыслями, плавающими в пространстве. Они прибыли на Землю, когда она была вся затоплена водой. Мысли в растерянности болтались над ней. Но однажды из водяных глубин поднялся огромный камень. Он взорвался с чудовищным грохотом, исторгнув к небесам пламя. Вода испарилась, и возникли облака. Образовалась твердая земля. Духи растений, а затем и животных приняли физическую форму. Наконец появились и люди. Как говорил Мирча Элиаде:
Миф рассказывает историю, относящуюся к событиям, которые произошли до начала времен, в туманные времена, когда все начиналось. <…> Это всегда повесть о «творении». Кроме того, миф, в отличие от сказок, представляющих собой чистый вымысел, принимается за истину обществом, внутри которого он существует.
Большой взрыв нам хорошо знаком. Это не обедняет его научной состоятельности, хотя само выражение было парадоксальным образом выбрано именно в таком духе тем, кто его придумал. В действительности астроном Фред Хойл «смеха ради» использовал его в серии радиопередач BBC в 1950 году. Самому Хойлу идея, что Вселенная может родиться и потом раздуваться, как воздушный шар, на протяжении миллиардов лет, представлялась исключительно гротескной. Тут он был не одинок. Эйнштейн и сам сделал все для разоблачения этой гипотезы. В 1917 году, конструируя свою космологическую модель, исходя из уравнений общей теории относительности, он с сожалением констатировал, что, с какого конца за них ни брался, всегда приходил ко Вселенной с расширением. В конце концов, чтобы навязать своей модели статическое поведение, он приправил ее математически необходимыми ингредиентами, позволяющими одновременно сохранить принцип относительности и верность старой идее, насчитывающей не менее двух тысячелетий, о неизменности и вечности космоса.
Но искусственный прием по определению неубедителен. Положение усугубилось, когда в 1929 году Эдвин Хаббл показал, что галактики удаляются от нас со скоростью, пропорциональной расстоянию. Чем они дальше, тем быстрее удаляются; так возникла идея, что Вселенная расширяется, — идея, которую Эйнштейн предвидел вопреки самому себе. Но не он направил астрономов по следу Большого взрыва. Эта честь принадлежит бельгийскому аббату Жоржу Леметру, пустившему задом наперед кинопленку всеобщей эволюции и увидевшему, как галактики все больше и больше сближаются друг с другом, пока не образуется то, что он назвал первичным атомом.
Во время доклада, сделанного в библиотеке обсерватории Пасадены на горе Вильсон в присутствии Эйнштейна, Леметр выразился со свойственным ему лиризмом:
В начале всего у нас были лишь искры невообразимой красоты. И вот раздался взрыв, Большой Шум (Big Noise), повлекший обилие дыма в небесах. Но мы прибыли слишком поздно и смогли стать лишь о визуализацией вершины творения.
Благодаря аббата, Эйнштейн сказал ему с чувством: «Это самая прекрасная и самая удовлетворительная из интерпретаций, когда-либо мною слышанных». Но сколь бы прекрасна ни была эта теория с эстетической точки зрения, она все же оставалась не более чем гипотезой. И если спустя тридцать лет она была все так же отвратительна Хойлу, то не в последнюю очередь потому, что по современным ему расчетам возраст Вселенной выходил значительно меньшим, чем возраст нашей собственной галактики. Но сторонники Большого взрыва уже готовились к победе в решающей битве. Размышляя о первых минутах жизни Вселенной, Гамов, Альфер и Герман заключили, что космический суп, существовавший в те мгновения, должен был разогреваться из-за столкновения частиц. Тепло должно было сохраниться до наших дней в виде фотонов с очень низкой энергией, соответствующей температуре излучения порядка нескольких градусов выше абсолютного нуля. Другими словами, они предсказали существование во Вселенной моря фотонов в диапазоне радиоволн. Арно Пензиас и Роберт Вильсон, два радиоастронома из лабораторий Белла, обнаружили (причем совершенно случайно) это реликтовое излучение в 1965 году.
Теория Большого взрыва была теперь встречена с триумфом, а слова Хойла, вопреки его собственной воле, прозвучали объявлением начала новой эры в том, как массмедиа представляют науку, какое будущее они ей рисуют. Отныне пресса, публикуя материалы о событиях в научном мире, сопровождает их заголовками, складывающимися в историю, радикально отличную от той, что изложена под ними. «Мифическое мышление, — писал еще Мирча Элиаде, — использует знаки, занимающие промежуточное положение между образами и понятиями. <…> Это интеллектуальное ремесленничество, когда в дело идет самый разнородный материал, оказавшийся под руками». Когда на обложке журнала Science & Vie мы читаем «300 миллионов долларов на проверку Эйнштейна» или «Ученый раскрывает тайны Вселенной», когда газета Libération сообщает о некоем событии заголовком «Сверхпроводники, энергия на всех парах», когда газета Le Monde пишет о «Памяти воды», а L'Express упоминает о месте скопления комет как о «приюте для небесных бомжей», мы видим продукцию того самого интеллектуального ремесла. Оно показывает нам крошечную горстку людей, затерянных в космосе и жаждущих разобраться в своем происхождении и предназначении.
Когда спроектированный на киностудии Уолта Диснея могучий космический корабль «Паломино» стартовал в 1980 году на экранах, публика вместе с ним приступила к исследованию математической сингулярности, хорошо известной под названием «черная дыра». Следуя перипетиям сюжета, зритель сначала узнает, что сильное поле притяжения черной дыры ничему (или почти ничему) не позволяет от нее удалиться; потом — что «в ней останавливается время», а «пространство в ней не существует»; и наконец — что ее открытие позволяет понять секреты сотворения и возможного разрушения Вселенной.
Математики и физики имеют обыкновение по-другому описывать эти останки умерших звезд. Они считают, что бывают черные дыры Шварцшильда (сферические, не имеющие электрического заряда и не вращающиеся вокруг своей оси), Керра (не сферические и вращающиеся) и Рейсснера-Нордстрёма (сферические, не вращающиеся и электрически заряженные). Некоторые размером с атом, а некоторые — с целую галактику. К «классическим» черным дырам следовало бы добавить еще квантовые, но здесь мы ограничимся моделью Шварцшильда в ее стандартном и наипростейшем варианте, только для того, чтобы понять расхождение между диснеевским фильмом и — если можно так выразиться — реальностью. По правде говоря, далеко не все ученые убеждены в существовании «замкнутых звезд», как их называли до того памятного выступления знаменитого космолога Джона Арчибальда Уилера 29 декабря 1967 года, когда он по-новому окрестил их, настойчиво подчеркнув: наиболее вероятный из кандидатов, Лебедь Х-1, находящийся в самом центре нашей галактики, до сих пор не позволяет нам с уверенностью идентифицировать его таким образом.