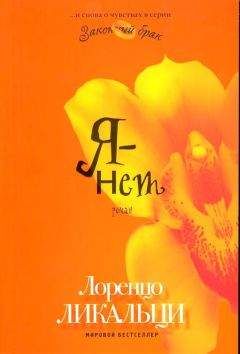Последняя дискуссия по этому поводу состоялась год назад, после чего я вообще отказалась затевать разговоры на подобные темы.
Звонит телефон. Отвечаю. Недолгий разговор, и я возвращаюсь в гостиную. Он сидит в кресле и читает книгу. Невозмутимый.
Я сажусь. Смотрю на него. Он не реагирует. Продолжает читать.
— Тебе неинтересно узнать, кто звонил?
— Нет, потому что я знаю кто, — отвечает он, не отрываясь от книги.
— Ну и кто, скажи мне.
— Зануда.
— Не отгадал. Это были Гайя и Дэвид. Они спрашивали, придем ли мы к ним сегодня на обед.
Он поднимает голову от книги и говорит:
— Ты права, я ошибся: звонили двое зануд. Мне кажется, ты им уже подтвердила, что придем, разве нет?
— Как я могла подтвердить? Тебя же рядом не было!
— Ну и хорошо, что не было. Иначе мне и впрямь пришлось бы пойти на обед к этим занудам. Это же пытка. Дети все время плачут…
— Что значит дети все время плачут! У них всего один ребенок, и тот прелестный, тишайший…
— Все равно зануды. Все трое. Троица зануд в засаде. Слава богу, что у них один телефон. В прошлый раз они мне всю плешь проели проблемами воспитания новорожденных. А чтобы покурить, приходилось выходить на балкон. А когда их прелестный и тишайший покакал, они охренели от счастья, потому что до этого он не какал целых тридцать два часа! И чуть не подрались из-за того, кому из них менять пеленку, не помнишь? Гайя тогда вернулась из дитятиной комнаты, а Дэвид сразу же бросился к ней с вопросом, как он, а она ответила с восторгом: наконец! И Дэвид пожелал во что бы то ни стало посмотреть на результат, после чего вышел к нам, сияя, поскольку, по его мнению, какашка хорошая, немного твердая, но хорошая. И тогда все выпили за это и принялись с аппетитом за ужин…
— Но при чем тут… — прервала я его.
— Стоп! Дай мне договорить. Кушать после того, как обсудили тему детского дерьма, — не самое приятное занятие в жизни…
— Но бедняжка…
— Еще вопрос: кто из нас бедняжка! Ты помнишь, что случилось после того, как мы прикончили ужин?
— Нет. А что такого драматического случилось?
— А то, что нам целых два часа пришлось демонстрировать восхищение вызывавшим у меня изжогу выступлением этого дебильного «бедняжки», подражавшего, к тому скверно, коту, корове, собаке и еще какой-то скотине собственного изобретения — гулулугу. Что за хрен такой — этот гулулугу? Сардинская крыса? А Гайя и Дэвид глазели но своего отпрыска с таким обожанием, будто он гений пародии. Бывает же такое!
— Ты не прав. Он очень милый.
«Милый? Ну конечно! Особенно он был мил, когда размазывал эклер с кремом на моих льняных брюках.
— Разве у тебя есть льняные брюки?
— Конечно, те, серые. Они что, не льняные?
— Нет.
— Ладно, пускай. Но ты хоть помнишь или нет, как он раздавил эклер на моих не льняных брюках?
— Не помню.
— Ах, ты не помнишь? Ты не помнишь, как сначала они заставили нас смотреть на его танцы и слушать его пение, а потом, сообразив, что я музыкант, решили продемонстрировать еще и огромный музыкальный талант своего потомка, и нам пришлось еще целых четверть часа мучиться звуками, которые он извлекал из игрушечной пианолы… Неужто ты и этого не помнишь?
— Это я помню, но…
— Что «но»? Когда мне все это обрыдло, включая меня самого, и я со словами «Прекрасно, ты заслуживаешь премии» протянул ему блюдо с эклерами, помнишь, что он сделал?
— А что он сделал?
— Он размазал эклер по моей штанине! Засранец! А помнишь, что сказал Дэвид?
— Нет.
Я, естественно, помнила все, но меня забавляло видеть его таким возбужденным.
— Слушай, ты что, вообще ни хрена не помнишь? У тебя галопирующий Альцгеймер… Ладно, раз уж ты больна, я тебе напомню: этот мудак Дэвид моментально нашел ему оправдание, заявив, что Рокко, ты можешь представить, что его зовут как-то иначе, чем Рокко[27], так вот, этот его Рокко проживает деструктивную фазу развития. У него, видите ли деструктивная фаза! Знаешь, куда бы я засунул этим двоим его деструктивную фазу? В их толстые…
— Почему ты говоришь: можешь представить, что его зовут как-то иначе, чем Рокко? — На этот раз я его прерываю, потому что мне, по правде, интересна эта его неожиданная идиосинкразия по поводу имени Рокко. — Рокко — красивое имя.
— Красивое, не спорю. Редкое и слегка снобистское, если ты архитектор и живешь в Милане. А если ты простой каменщик и живешь в Катании, тогда как оно звучит? Так же красиво? По-моему, нет. По-моему, дико и претенциозно.
— Какая разница, кто где живет. Имя есть имя!
— Нет, все зависит от того, кто ты есть и кто тебе его дал. Лично меня миланские архитекторы, называющие своих отпрысков Рокко, уже достали. Они не лучше каменщиков из Катании, которые дают детям имя Шарон.
— Раз уж об этом зашла речь, скажи мне, какое имя ты бы дал нашему гипотетическому ребенку?
— Очень гипотетическому, надеюсь.
— Ладно, очень гипотетическому. Так как бы ты его назвал?
— Если бы это был мальчик, у меня есть кое-какая идея.
— Какая?
— Я тебе это скажу в тот день, когда ты забеременеешь. Лет через тридцать или сорок. Обещаю. Намекну только, что оно начинается на П, и больше ко мне не приставай.
— На П? М-м-м… Кто бы это мог быть?.. Пьеро? Паоло?
— Нет.
— Пино!! Разве ты не хотел бы назвать его Пино? Зная тебя… Признавайся сейчас же, что у тебя на уме назвать Пино! Потому что, если это так, я никогда не заведу с тобой ребенка!
— Нет, успокойся. Хотя Пино звучит намного лучше, чем Рокко. Такое же редкое, как Рокко, но, по крайней мере, ни одному миланскому архитектору не хватит мужества назвать своего сына Пино.
— Тогда какого черта ты так хочешь его назвать?
— Не приставай, я все равно не скажу тебе, какое имя я хочу ему дать. Ты еще не созрела.
Мы почти сразу начали жить вместе. В его квартире, поскольку моя была слишком мала. Я перевезла к нему свои вещи, кое-какие безделушки и несколько самых любимых картин. Это создало кучу проблем. Дело в том, что в его квартире на стенах не висело ничего, кроме его университетского диплома, да и тот — в ванной, прямо над унитазом!
Остальное — пустые стены, на которых даже ни открытки.
Я помню, как я первый раз пыталась повесить картину.
Я была одна дома, Франческо должен был вот-вот прийти.
Я стояла перед голой стеной с картиной в руках, разглядывая стену с решительностью и неуверенностью одновременно, потому что, когда в доме нет ни одной картины, очень трудно повесить первую. Неожиданно он материализовался за моей спиной:
— Что это?
— Как что? Картина, не видишь, что ли?
— И что ты хочешь с ней сделать?
— А как ты думаешь?
— Собираешься повесить?
— Слушай, Франческо, если она тебе не нравится, скажи сразу.
— Нет-нет, она мне нравится. Дело не в том, о в том, что для этого надо вбить гвоздь. А вбить гвоздь — это все равно что сказать: я здесь надолго, это мой дом. А дальше, знаешь, как бывает? Одна картина тянет за собой вторую третью, кончается тем, что весь дом полон картин, и когда тебе надо переезжать, ты ума не можешь приложить, что с ними делать. А когда у тебя ничего нет — собрал чемодан и готово.
— К чему ты это говоришь? Мы что, должны переезжать? Или ты хочешь сказать, что мне скоро придется уехать из твоего дома?
— Нет, при чем тут ты? Но лучше не рисковать, развешивая картины, это может принести неудачу.
Короче говоря, он не захотел, чтобы я повесила свои картины. Я была вынуждена уступить. Потому что это был его дом. И потому что к тому времени мы были вместе всего пятнадцать дней.
Как бы то ни было, сегодня наш дом полон картин.
Франческо добился официального развода, и мы можем пожениться, но он до конца не убежден, так ли уж необходимо юридически оформлять наши отношения.
Три года спустя он оставил работу и снова принялся играть на бас-гитаре, но самое главное, он опять начал писать музыку.
Как-то раз, когда я спросила его, почему бы ему не попробовать опять сочинять, он прочитал мне целую лекцию о музыке и философии и о том, какое место занимают они в его жизни и как делят ее периоды.
По его словам, до меня одно в какой-то степени исключало другое и только в соответствующем состоянии души он мог бы вернуться к сочинению музыки. Он также поделился со мной своим предчувствием, что музыка скоро придет, потому что какие-то мотивы уже звучат в его голове, но что для того, чтобы поймать их, нужно еще немного времени или, еще точнее, еще немного тебя.
Он взялся за дело с энергией, какой я в нем и не предполагала. Прежде всего он обзавелся новой группой, да еще какой! Он пригласил в нее двух старых приятелей из прежнего ансамбля: гитариста и клавишника. Отыскал одаренного саксофониста. Нашел превосходного ударника, которому было всего двадцать лет. Группу пополнили неплохая вторая гитара и, что очень важно, невероятно интересный певец. Сам Франческо писал музыку и тексты и конечно же играл на бас-гитаре.