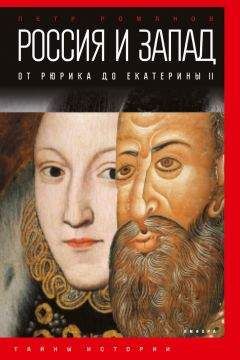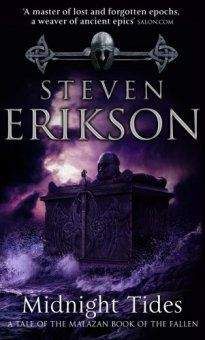Михаил Сперанский пишет:
Уже это одно обращает на себя внимание: критиками и отрицателями-рационалистами были люди наиболее развитые, более других чувствовавшие мертвящую тяготу режима, а затем новгородцы, уже раньше вкусившие соблазна рационализма, легче доступные западному в своей основе рационализму и наиболее самостоятельно относившиеся к московской правительственной и духовной опеке.
Новые еретики-западники, как в прошлом и стригольники, отрицали иерархию и лишь для облегчения пропагандистской работы рекомендовали своим священникам-прозелитам не снимать с себя сан. Как и их предшественники, новые еретики отрицали монашество, церковную обрядность («можно молиться и дома») и загробную жизнь («умер человек, по те места и был»). Так же резко критиковали официальную церковь за взяточничество и приверженность к материальным благам.
Характерен афоризм, бытовавший в среде новых еретиков: «Разум самовластен, стесняет его вера». Как быстро и далеко ушли извечные бунтари новгородцы от вчера еще, казалось, незыблемого на Руси постулата: мнение уже есть грех.
Интересно, что высшее московское духовенство довольно долго, лет десять, игнорировало тайное учение, хотя ересь уже давно обосновалась в Москве и, более того, проникла в царские палаты. Историк Сперанский указывает:
Иван III в 1480 году, прельщенный образованностью и умом Алексея и Дениса, берет их в Москву, где они, близко стоя к князю и высшим, сравнительно более культурным сферам, быстро прививают свое учение, опять-таки среди лучших людей того времени.
Среди приверженцев ереси – автор «Повести о Дракуле» Федор Курицын, дьяк Зосима, занявший вскоре митрополичий престол, известный в те времена книжник купец Кленов и многие другие влиятельные на Руси люди.
Распространению ереси способствовало и еще одно обстоятельство: приближался 7000 год от сотворения мира (1492 год), считавшийся роковым. С ним связывали конец света и ждали второго пришествия Христа. Если учесть ряд предшествующих событий: падение Царьграда, голодный мор и чуму, ряд мистических видений, посетивших известных на Руси «святых старцев» (все это истолковывалось как страшное предзнаменование), наконец, существование готовой пасхалии только на семь тысяч лет, то есть до 1492 года, легко понять средневековый апокалиптический ужас, охвативший людей в связи с наступлением круглой даты.
Единственные, кто проявлял в этот момент выдержку и сохранял присутствие духа, были как раз еретики, говорившие о ненадежности самого источника страха – эсхатологических писаний, на которые опиралась старая школа православия. Когда наступил 1492 год и небо при этом, как и предсказывали еретики, на людей не обрушилось, многие еще больше поверили словам новых проповедников.
Крупнейший русский исследователь вопроса о ереси «жидовствующих» Сперанский делает следующий вывод:
Новое направление – рационалистическое – выводило жизнь на новый путь, путь западноевропейской культуры. Путь этот пройден был шагом медленным и привел к цели, приобщению русского общества к общей с Западом жизни, лишь в XVIII веке; в XVIII веке стало уже ясно, что другого пути в нашем развитии и быть не может, в XVII это чувствовалось, но ясно не сознавалось еще, а в XVI еще ставился вопрос о самом пути, о правильности его, о самом его существовании для Московской Руси. Проследить постепенное водворение западных начал в нашей жизни и значит проследить историю этого идейного движения.
Принцип слепой веры каждой букве старинных писаний, почитавшихся Божественными, дал трещину и начал разваливаться. Один из самых крупных церковных авторитетов того времени Нил Сорский, принципиальный противник ереси, сам встал отчасти на путь рационализма, заявив, что «писаний много, но не все они Божественны». Он первым из представителей традиционного православия вслух заговорил о необходимости разумного подхода к изучению писаний.
Ересь как двигатель прогресса
Ересь стригольников заключала в себе некоторые внешние черты, роднившие ее с западным рационализмом. Последующее движение уже отчетливо несет на себе следы связи с Западом. «Если не прямо с Западом эпохи Возрождения, то с ее отзвуками, хотя, может быть, не лучшими, не передовыми», – пишет Сперанский.
Уже первые идейные столкновения между еретиками и традиционалистами показали абсолютную неподготовленность ортодоксов к серьезному разговору. Именно «жидовствующие», как это ни парадоксально, способствовали появлению на Руси полной Библии. К моменту появления ереси у православных не оказалось даже полного перевода Библии на славянский язык, пять веков они прожили лишь с отрывками из Ветхого Завета, гордо претендуя при этом на право быть Третьим Римом!
В поисках надлежащего инструментария для борьбы с еретиками иерархам православной церкви пришлось обратиться к западноевропейской культуре: первая полная русская, так называемая Геннадиевская, Библия 1499 года появилась на свет благодаря выходцам с Запада и была подготовлена на основе западных источников. Вообще все основное идеологическое оружие, использованное в борьбе с ересью, почерпнуто православными иерархами в Европе и переведено с латыни. Толмач Дмитрий Герасимов переводит, например, книгу западного богослова Николая Делира «Прекраснейшее состязание, иудейское безверие похуляющее», трактат «Учителя Самуила евреянина слово обличительное» и Псалтырь в толковании Брунона Вюрцбургского.
Благодаря ереси и новым росткам рационализма на Руси у русских появилась возможность познакомиться не только с богословскими, но и с некоторыми научными произведениями западных авторов. Среди переводов, сделанных рационалистами, можно найти средневековые труды по логике и ряд астрологических сочинений. Пусть все это были труды не самого высокого уровня, но и они значительно расширяли кругозор русского человека. Без преувеличения можно утверждать, что именно с этого времени в Московском государстве появляются первые зачатки научной мысли, во всяком случае русские люди делают первые попытки взглянуть на мир по-новому, а не в русле старой церковной догмы.
С этого же времени Русь распадается на прогрессистов – сторонников реформ и сближения с Западом – и на консерваторов, всеми силами стремящихся загнать «джинна рационализма» назад, в замшелую бутылку дедовских традиций.
Первые ведут огромную черновую работу, постепенно увеличивая число переводных книг, как научных, так и книг для чтения. Весь этот поначалу малый ручеек, а затем поток капля за каплей начинает постепенно разбивать твердокаменный русский догматизм.
Консерваторы в отчаянии делают всё, чтобы защитить старину, доказать вредоносность западных идей и убедить людей в том, что причины всех бед не в закостенелости прежних воззрений, а, наоборот, в пренебрежении ими. Митрополит Макарий собирает, пересматривает московскую святыню, чтобы она, как пишет Сперанский, «стройная и внушительная по объему, убедила всякого сомневающегося, насколько Русь оправдала и заслужила свое великое назначение».
Соборы 1547 и 1549 годов канонизируют в массовом порядке новых святых угодников, ревизуют старые, более ранние канонизации. В противовес изданиям рационалистов появляется созданный митрополитом Макарием свод книг, разрешенных для чтения, «все книги святые, на Руси чтомые». Этот манифест консерватизма – «Великие Четьи минеи» – в России запомнят надолго, так же как и появившийся в то же время Домострой – угрюмый свод средневековых правил, согласно которому русскому человеку предписывалось строить повседневную жизнь.
Усилия консерваторов активно поддерживает власть, сообразившая, что вслед за одним табу, церковным, может пасть и другое табу – слепая вера в монарха. Сам Иван Грозный («английский царь» и «первый европеец» на Руси) решительно борется против ереси и рационализма в православии. Не пытаясь даже обосновать зловредность книг рационалистов, власть составляет один за другим списки запрещенных изданий. И все равно проигрывает. Несмотря на гонения, рационализм уже пустил очень живучие корни.
Медленно, очень медленно, но западное влияние начинает сказываться в самых разных областях жизни русских. Спор идет уже не о том, нужна или не нужна наука, а о том, какой в своей основе она должна быть: западно-католической или восточно-греческой. О том, какое из двух западных направлений предпочтительнее, спорят сторонники латинизма и эллинизма.
И те и другие, как отмечают многие историки, борются в принципе за одно и то же – за просвещение, обе стороны мечтают организовать наконец в Москве настоящую, «правильную» школу. Не церковную школу, что готовит кадры для своих же нужд, а светскую, которая стала бы очагом научных знаний на Руси. Для большинства эллинизм в силу традиции пока еще кажется предпочтительнее.