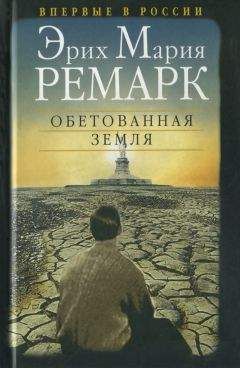— А покушение? — спросил я.
— Оно не удалось, — ответил Равич. — Осталось безо всякого отклика. Последний шанс бесповоротно упущен. Да и шанса-то никакого не было. Гитлеровские генералы задушили его на корню. Немецкие офицеры обанкротились вслед за немецкой юстицией. И знаете, что будет ужаснее всего? Что все будет предано забвению сразу же после войны.
Воцарилось молчание.
— Равич, — сказал наконец Хирш, — ты нарочно пришел, чтобы терзать мне душу? Она и так уже кровоточит.
Равич изменился в лице:
— Я пришел, чтобы выпить водки, Роберт. В прошлый раз у тебя еще оставался кальвадос.
— Его я сам допил. Но есть немного коньяка и абсента. И бутылка американской зубровки от Мойкова.
— Давай водку. Я предпочел бы коньяк, но водка не оставляет запаха. Сегодня вечером я впервые буду оперировать.
— Снова вместо другого врача?
— Нет. Но рядом будет главврач. Будет следить, все ли я правильно делаю. А ведь эту операцию назвали моим именем. Двенадцать лет тому назад, когда этот безумный мир был еще в порядке.
Равич засмеялся:
— «Живя в опасности, будь осторожен даже с иронией». Разве не так было сказано в вашем «Ланском кодексе»? Вы как, совсем о нем забыли или все еще им руководствуетесь?
— Мы сегодня как раз к нему вернулись, — ответил я. — А то решили было, что живем в безопасности и «катехизис» нам больше не потребуется.
— Не бывает никакой безопасности, — заявил Равич. — Особенно когда в нее свято веришь. «Хорошая водка!», «Налей мне еще!», «Вы живы!». Вот в эти догматы верить пока что можно. Да что вы нахохлились, как мокрые курицы! Вы ведь действительно живы! Столько народу погибло, кому еще пожить хотелось. Не забывайте об этом, а об остальном постарайтесь забыть до тех пор, пока не кончится год отчаяния.
Он посмотрел на часы.
— Мне пора. А если вас и в самом деле задавит депрессия, приходите ко мне в больницу. Я вас свожу в онкологию. Мигом поправитесь!
— Хорошо! — отозвался Хирш. — А зубровку забери себе.
— С какой это стати?
— В качестве гонорара, — ответил Хирш. — Твоя диагностика, может, и не очень точна, но нам она нравится. А лечить депрессию еще более тяжелой депрессией — вообще оригинальная идея.
Равич рассмеялся:
— Невротикам и романтикам это не помогает.
Он уложил бутылку в свой почти пустой саквояж.
— Напоследок еще один совет, совершенно бесплатно. Не забивайте голову своими несчастными судьбами. Все что вам сейчас нужно — это женщина, только по возможности не эмигрантка. Разделяя горе с кем-то, страдаешь вдвойне, а уж это вам совершенно ни к чему.
Приближался вечер. В драгсторе на углу я взял самое дешевое блюдо: две сосиски и по булочке к каждой. Потом я долго рассматривал рекламу мороженого, мучаясь с выбором из сорока двух сортов. Америка — страна мороженого; даже солдаты на улицах непринужденно лизали шоколадные шарики в вафлях. В Германии все было не так; немецкие солдаты даже спали, вытянувшись по стойке «смирно», а пуская газы, изображали автоматную очередь.
Я возвращался в гостиницу по Пятьдесят второй улице. Это была улица стрип-клубов. Все стены были оклеены плакатами с голыми и полуголыми танцовщицами, которые каждый вечер медленно раздевались на сцене перед тяжело дышащей публикой. Поздно вечером перед дверьми выстраивались разодетые, как турецкие генералы, толстяки-портье, а зазывалы рвали глотку, расхваливая свое зрелище. Вся улица кишела пестрыми униформами, но нигде не было заметно предательских зонтиков и громадных сумок, с которыми ходят европейские проститутки. Их на улице не было, а публика в стрип-клубах состояла, должно быть, сплошь из угрюмых онанистов. Проституток называли здесь call girls, и вызвать их можно было только по телефону, набрав какой-нибудь заветный номер. Но даже и это было запрещено, и полиция охотилась за проститутками, словно за заговорщиками-анархистами. Вопросами морали в Америке ведали женские организации.
Я покинул аллею онанистов и свернул в квартал победнее. Здесь теснились узкие, дешевые здания из бурого песчаника с длинными лестницами при входе. На высоких ступеньках, прислонившись к железным ограждениям, молча сидели люди. Напротив подъездов на тротуарах стояли переполненные мусорные бачки из алюминия. На мостовой сновали подростки; они пытались играть в бейсбол. Их матери торчали у окон и на лестницах, точно куры на насестах. Возле родителей копошились дети помладше, они словно грязные белые бабочки мелькали перед узкими фасадами, усталые и полные непринужденного доверия к сумеркам.
Перед дверью гостиницы «Рауш» стоял наш второй портье Феликс О’Брайен.
— А что, Мойкова нет? — спросил я.
— Сегодня суббота, — напомнил он. — Мой день. Мой ков уехал.
— Правильно! — А я и забыл. Стало быть, впереди длинное, скучное воскресенье.
— Мисс Фиола тоже спрашивала господина Мойкова, — небрежно проронил Феликс.
— Она еще здесь? Или уже ушла?
— По-моему, нет. Во всяком случае, я не видел, чтобы она выходила.
Мария Фиола вышла мне навстречу из тусклого света плюшевого будуара. На ней снова был широкий тюрбан, но на этот раз черный.
— Снова идете фотографироваться? — спросил я ее.
Она кивнула.
— Я и забыла, что сегодня суббота. Владимир развозит нектар богов. Но на этот раз я обо всем позаботилась. Теперь у меня есть собственная бутылка. Я прячу ее у Мойкова в холодильнике. Даже Феликс О’Брайен ее пока что не обнаружил. Впрочем, это ненадолго.
Она прошла за стойку и вытащила бутылку из углового холодильника. Последовав за ней, я достал два стакана и отнес их к столику рядом с зеркалом.
— Вам попалась не та бутылка, — предупредил я. — Это перекись водорода. Она ядовита. — Я указал на этикетку.
Мария Фиола рассмеялась:
— Нет, это та самая бутылка. Этикетку я сама наклеила, чтобы отпугнуть Феликса О’Брайена. Перекись водорода не пахнет, так же как и водка. Нюх у Феликса первоклассный, только он ничего не поймет, пока не попробует. А на этот случай я прилепила этикетку: «Яд». Все просто, правда?
— Просто, как все гениальное! — восхитился я. — И чем проще идея, тем сложнее додуматься!
— Одну бутылку я уже завела себе пару дней назад. Чтобы Феликс не догадался, Владимир Иванович перелил ее в старую, пыльную склянку из-под уксуса, а сверху наклеил этикетку с русскими буквами. И что же, на следующее утро бутылки уже не было.
— Лахман? — осенило меня.
Она изумленно кивнула:
— Откуда вы знаете?
— Врожденный дар аналитика, — ответил я. — Он сознался?
— Да. Мучимый раскаянием, он принес мне взамен эту бутылку. Она даже больше первой. В той было пол-литра, а в этой три четверти с лишним. Ваше здоровье!
— Ваше здоровье!
«Так вот она, святая вода из Лурда!» — подумал я. А Лахман ничего не унюхал, великий трезвенник! Интересно, что сказала его пуэрториканка. Хотя, может быть, он догадался сказать, что это сливовица из Гефсиманского сада?
— Я люблю здесь сидеть, — сказала Мария Фиола. — Привычка с прежних времен. Я долго тут прожила. Мне нравится вот так сидеть в гостиницах. Всегда что-нибудь происходит. Люди приходят и уходят. Встречи и расставания — самые волнующие события в жизни.
— Вам так кажется?
— А вам нет?
Я задумался. В моей жизни было много встреч и расставаний. Слишком много. Больше всего расставаний. Спокойная жизнь казалась мне куда привлекательнее.
— Может быть, вы и правы, — ответил я. — Но тогда вам должны нравиться большие отели?
Она тряхнула тюрбаном так, что металлические бигуди зазвенели.
— Большие отели совсем бесцветные. Здесь все по-другому. Здесь никто не скрывает эмоций. Вы по мне это видели. Вы уже знакомы с Раулем?
— Нет.
— А с графиней?
— Очень бегло.
— У вас еще все впереди. Еще водки? Рюмочки совсем маленькие.
— Это всегда так кажется.
Я ничего не мог с собой поделать: от воспоминаний о Лахмане мне начинало казаться, что водка слегка попахивает ладаном. На ум невольно пришли слова «Ланского кодекса»: «Берегись фантазии: она преувеличивает, преуменьшает и искажает».
Мария Фиола потянулась за пакетом, лежавшим на соседнем стуле:
— Мои парики! Рыжий, светлый, черный, седой и даже белый. Жизнь манекенщицы — сплошная суматоха, а я этого не люблю. Вот и захожу сюда посидеть всякий раз перед своим маскарадом. Владимир — просто само спокойствие. Кстати, сегодня мы делаем цветные фотографии. Почему бы вам не сходить со мной? Или у вас другие планы?
— Нет. Но ваш фотограф меня вышвырнет.
— Никки? Что за странная идея? Там и без вас будет куча народу. А если вам станет скучно, можете уйти в любой момент. Это не званый вечер.
— Ладно.
Я рад был любому предлогу, лишь бы не мучиться одиночеством в своей комнате — в той самой, где умер эмигрант по фамилии Зааль. В шкафу я обнаружил несколько забытых писем. Зааль не успел их отправить. Одно из них было адресовано некой Рут Зааль в исправительно-трудовой лагерь Терезиенштадт неподалеку от Вены. «Дорогая Рут, от тебя так давно ничего не слышно. Надеюсь, что ты здорова и у тебя все в порядке». Я знал, что концлагерь Терезиенштадт был сборным пунктом, для евреев перед отправкой в крематории Освенцима! Должно быть, Рут Зааль давно уже превратилась в пепел. Но письмо я все-таки отправил. Оно было полно отчаяния, раскаяния, вопросов и бессильной любви.