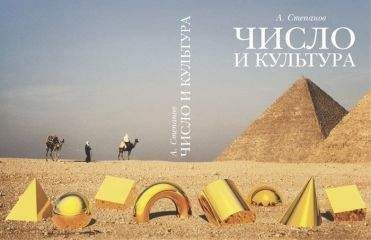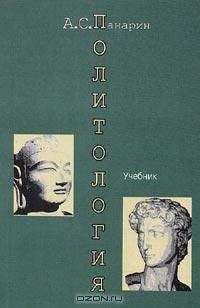Вспомним, что, кроме трех традиционных – консервативных, либеральных, радикальных – сил, в России к 1905 г. существовала и четвертая политическая сила – большевики, – хотя поначалу ее мало кто воспринимал всерьез и ее удельный вес был весьма незначителен. «Выскочки», «парвеню» проявляли, однако, незаурядное упорство и последовательность, уверенность и точный расчет, смелость и самообладание. Тем более, что руководила ими такая харизматическая фигура, как Ленин.
В октябре 1917г. состоялся вооруженный переворот, движущими силами которого были, кроме большевиков, левые эсеры и анархисты, Этот переворот, первоначально обладая всеми признаками обыкновенного путча (насилие со стороны явного меньшинства, как политического, так и морального), в составе последующих событий, гражданской войны, утвердил за собой статус великой революции, какой еще не бывало (посрамив при этом однозначные и дружные прогнозы насчет быстрого падения нового режима). В 1918 г. большевики избавились от своих последних союзников и потенциальных соперников, а в 1921 г. запретили фракции и внутри собственной партии, надолго «закрыв» свободу политической жизни российского общества.
Большевизм заимствовал у каждого члена традиционной политической тройки самые сильные моменты и вдобавок развил их. Консерваторы идеализируют прошлое? – У большевиков «вековые чаяния человечества» (в них сливается и тянущаяся через тысячелетие мечта о «царствии Божием на земле», и еще более древняя тоска об утраченном «золотом веке» / 4 /, о всеобщем братстве, об общине). Радикалы требуют активных действий для решительных перемен в общественном устройстве? – Но большевики радикальнее любых радикалов и предлагают сделать беспрецедентную череду шагов: «коммунизм – светлое будущее человечества», и оно совсем близко. Либералы настаивают на демократии? – Но кто же отрицает, напротив, даешь не просто демократию, а «демократию высшего типа». В. И. Ленин утверждал: «Советская власть в миллион раз демократичнее любой самой демократичной буржуазной республики» / 5 / (курсив мой.- А. С.).
С точки зрения традиционно-трехмерного, классического политического мышления совместить позиции консерваторов, радикалов и либералов (да еще раскалив их до крайней точки) попросту невозможно. Но большевизм был явлением авангардным, авангардистским. Поэтому он не просто совместил традиционную тройку, придал ей психологическую, эстетическую и концептуальную завершенность, а семантически замкнул сферу политической жизни и «закрыл» ее, ибо после него, как после явления высшего типа, явления низшие «не нужны». Трехмерная политическая вселенная бесконечна, поскольку лишена исчерпывающей самопричинности: без постороннего участия ей ни возникнуть, ни исчезнуть. Другое дело, если в нее внести еще одно измерение. Теперь, если здесь еще будут и силы взаимного притяжения (а они есть: коллективизм, пролетарская солидарность / 6 /), она становится по-фридмановски конечной в пространстве и времени и обретает невиданные дотоле совершенство и самодостаточность. Нет, совсем не случайно релятивистские и большевистские принципы формировались практически одновременно; одни и те же семена, одни и те же начала давали всходы на разных полях: на научном и на политическом, на философском и эстетическом. Авангардное мышление наступало широким фронтом. В физике – Эйнштейн, в политике – Ленин.
Синтагматическое замыкание политической вселенной, возможность ее расширения и коллапса позволили являть истинные чудеса, совершенно неведомые классическому мышлению. Общество, наконец, обрело конкретный политический инструмент для прохождения через порог собственной гибели и нового рождения. На этом пороге, в этом узле метаморфоз то, что казалось и было – в той, прежней реальности – противоположным, становится единым и неразличимым (ср. «энантиодромию» Гераклита, complexio oppositorum Николая Кузанского, диалектический принцип единства, хотя и борьбы, противоположностей). Ты хочешь свободы? – Пожалуйста, получай, и не какую-нибудь мнимую, буржуазную, а высшую и подлинную. Если для тебя она неотличима от жесточайшего гнета, значит, ты не понимаешь знаменательный смысл эпохи, значит, ты внутренне чужд партии и народу, значит, ты – враг или перерожденец и должен быть «редуцирован». И миллионы с воодушевлением пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Как это совместить с архипелагом концлагерей, с грохотом кованых сапог на лестницах по ночам, со «сроками» за десятиминутные опоздания на работу, с истреблением оппозиции и разномыслия, с крепостным, беспаспортным крестьянством? Если не понимаешь, то ты – не «диалектик», товарищ. В 30-х же годах это понимал практически каждый, и до сих пор многие вспоминают о тех временах с пронзительной ностальгией и твердо (хотя и безо всяких «тонких» доказательств) настаивают: «Это и было счастьем». А разве счастье доказуемо?
Сталин в восприятии многих современников и в нынешних их оценках выступает едва ли не как космическая сила, сделавшая дни светлее, а ночи темнее. Без ночного страха нет настоящей радости светлого дня. Общие идеалы и страх заставляли людей теснее прижаться друг к другу, позволяли живее ощутить общее, коллективное тепло (хотя и приходилось отшатываться в ужасе от политически прокаженных). Контраст света и тени создавал ощущение духовного богатства. Переносимые беды и трудности при наличии заветной цели обеспечивали многим особое жизнелюбие, которое не растрачивалось даже к преклонным годам. Довольно типичны и следующие отзывы: «У многих, правда, из простых, даже страха не было (интеллигенты те все трепетали). Если человек прост – он открыт, у него нет ни задних мыслей, ни заднего страха, ни особых желаний. Но видно такова жизнь, что на одной простоте далеко не уедешь. Или кто-то нас расколол, порушил?».
Повторяю, классические, «эвклидовы» критерии неприменимы к политической логике большевиков, к созданной ими реальности. Новая, четырехмерная – почти по Минковскому – политическая вселенная, так же, как и физическая, не нуждалась в ньютоновском первотолчке или в некоей высшей, трансцендентной опеке, а существовала и двигалась самостоятельно, будучи в полной мере самодостаточной. В частности, у нее не было никакой потребности принимать внушенные откуда-то свыше и пестуемые «религиозными мракобесами» моральные правила; она рождала собственную мораль. Причем, в полном соответствии с диалектическими и релятивистскими началами, образ нравственности существенно зависел от системы отсчета. Раз политически главное – интересы рабочего класса, то и мораль должна быть классовой, пролетарской, а точнее – партийной. То, что традиционные политические деятели в силу своих «предрассудков» не могли переступить (или медлили переступать, теряя время), большевики переступали, не сомневаясь, едва ли не с молодечеством. Вооруженный грабеж банков, поражение Отечества, связи с Вильгельмом, сонмы трупов – да, если нужно. Главное – цель, а она ведь чиста, свята и велика.
Нередко большевиков обвиняют в том, что они разрушили традиционную иерархию этических ценностей, поставив классовые ценности выше общечеловеческих и «божиих» (последние они как материалисты не признают). Это не совсем так. Всякие иерархии – в том числе аксиологические – прерогатива метафизиков, большевики же – «диалектики». Они никогда не отрицали общечеловеческих ценностей, но всегда утверждали, что использование этических элементов того или иного уровня зависит от конкретных задач, от хронологического этапа, от системы отсчета. «Критерием истины является практика»; следовательно, каковы потребности практики, таковы и взгляды на истину. Так, в надлежащий момент Горбачев объявил о приоритете общечеловеческих ценностей. И остальное партийное руководство это допустило, исходя из «конкретных задач» и понимая, что завтра, если надо, вновь можно нажать на классовые или национальные.
Всякий профессионал считает свое дело самым важным. Таковы профессиональные художник, токарь, священник; таков же, конечно, и профессиональный политик. Однако, быть может, ни у кого еще в мире политическая субстанция не представала в столь рафинированном, самоценном значении, как у Ленина с его соратниками и последователями. Наполеон, Цезарь хоть молились (даже если и напоказ), так или иначе вынужденные считаться с наличием чего-то «самого великого», что важнее и их самих, и их конкретного дела. Коммунистические вожди оказались политиками par excellence, почитающими сферу своей деятельности выше любой земной и – отсутствующей – небесной. «Красота спасет мир», – уверял Достоевский (красота, а не добро и не Бог, как требовали, казалось, его этические и религиозные убеждения). «Спасение миру – в социалистической революции и политике», – всем существом собственной деятельности утверждал Владимир Ильич. Политическая вселенная тогда в России замкнулась, обрела самодостаточность, которая впоследствии ограждалась партией от каких бы то ни было посторонних влияний, народной молвы, экономических неурядиц, недовольной критики, от всяких не идущих к делу сомнений и соображений.