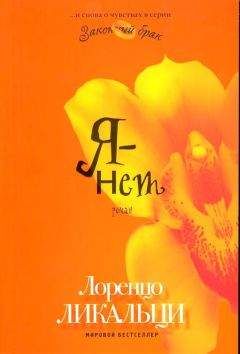Его лицейские годы — это эпопея. В лицее Франческо появлялся редко, постоянно прогуливал занятия, подделывая подпись папы под фантастическими объяснениями. Например, под следующим: «14 мая 1981 г. Мой сын Франческо отсутствовал на уроках 12-го и 13-го числа по причине тяжёлой семейной утраты». (Умер Боб Марли.) А когда он все-таки появлялся в стенах лицея, то проводил время в мечтаниях о тропических островах, в записях на страницах дневника сочиняемых песен или кайфуя от косяка, раскуриваемого вместе со своим лучшим дружком Федерико, таким же раздолбаем.
О том, что он покуривает травку, нашему отцу стало известно в результате медицинского освидетельствования призывников.
Я об этом узнал раньше. Терпел, внимательно следя за тем, чтобы он травкой и ограничился.
Когда пришел вызов на медкомиссию, Франческо, уже некоторое время дергавшийся в его ожидании, попросил у меня совета, что сделать, чтобы его освободили от армии по состоянию здоровья.
«Будь самим собой», — ответил я ему с некоторой, не слишком большой, долей шутки.
Он вернулся от врачей с пресловутой статьей «сорок один», той, что присваивали наиболее отмороженным, и, сияя, сказал мне:
— Спасибо, бразер, твой совет оказался бесценным. Перепуганному папе, приложившему для того огромные усилия и включившему все свои связи, удалось узнать точный диагноз: «Адаптативные нарушения вследствие использования каннабионидов». Если бы я не увел Франческо в тот день из дома, папа придушил бы его собственными руками.
Позже из-за своей дурной привычки брат едва не отправил на тот свет нашу бабушку. Они готовили себе чаи, Франческо и его сердечный дружок Федерико, чай, естественно, с гашишем. Это было в первый и, думаю, что в последний раз, они не знали, сколько наркоты сыпать, и, не скупясь, положили ее всю. А это приличная доза. Дело было в августе, поздним вечером, дома только они двое и бабушка. Вся семья на вакациях, а он остался в Милане, якобы чтобы ухаживать за бабушкой. Бабушка вошла в кухню, когда они оба кайфовали, попивая свой чаек. «Я пришла заварить себе ромашку, никак не могу уснуть… А вы что пьете?»
Они заговорщицки перемигнулись: отвар от бессонницы, хочешь?
Бабушка выпила чашку отвара, поблагодарила и отправилась к себе. Уснуть она не могла. Часа через три она принялась кричать и больше не прекращала. Франческо и Федерико дрыхли в кайфе на балконе, им уже все было до лампочки. Соседи вызвали полицию. Бабушка поднялась с постели, ее вырвало, зашатало, она упала и сломала бедренную кость.
Примчались полицейские. Стали звонить. Никто не ответил. Они вышибли дверь. И нашли бабушку, лежащую в блевотине на полу. Бабушка гладила посиневшую ногу. Она заговорила с полицейскими по-немецки, приняв их за нацистских солдат. Вскоре полицейские обнаружили Франческо и Федерико, спавших голыми на балконе, одного в гамаке, другого на надувном матрасе.
Франческо, после того как его сильно потрясли, проснулся, пробормотал: «Ни фига ж себе плохой приход» — и опять заснул или сделал вид, что заснул. Федерико не открывал глаз и только повторял: «Мама, еще пять минут». (Так было записано в полицейском протоколе.) Прибыла «скорая», в нее погрузили всех троих и отвезли в госпиталь. С того дня бабушка так и не восстановилась. Когда кто-ни-будь из семьи спрашивал: «Где бабушка?», Франческо неизменно отвечал: «Кайфует».
Я хорошо помню тот день, когда Франческо заявил, что он гомосексуалист.
Уже некоторое время он и трое-четверо его приятелей таких же придурков, особенно когда были под мухой, развлекались тем, что целовались в губы, а потом обсуждали типа: ты хорошо целуешься, у тебя язык похож на наждачную бумагу, а твой — вялый, как амеба, брейся, прежде чем целоваться, а то царапаешься, не мог бы ты в следующий раз лить поменьше слюней, и так далее. Франческо сам признался мне в этом с ухмылкой, объяснив, что это шутливый способ укрепить их дружбу.
Так вот, мы все тогда сидели за столом, ужинали, и тут Франческо выступил со своей драматической речью. Ему было семнадцать лет.
— Папа, мама, Флавио, я должен сказать вам нечто очень важное. Надеюсь, что вы правильно поймете то, что я собираюсь вам сказать, даже если это будет нелегко. Уже долгий срок я ношу в себе страшную тайну и полагаю, что настал момент открыть вам ее. Никто об этом не знает, даже мои ближайшие друзья, потому что я посчитал, что первыми, кто о ней узнает, должны быть вы. До сих пор мое поведение было всегда примерным, по крайней мере в этом смысле, но я чувствую, что не могу дальше ломать эту абсурдную комедию.
Мы смотрели на него с тревогой и растерянностью, не понимая, куда он клонит. Он был явно смущен, взволнован (но в те времена он всегда был таким) и избегал смотреть нам в глаза. Особенно в глаза отцу.
— Я не хочу долгих разговоров, потому что иначе я не соберусь с мужеством сказать вам это. Папа, мама, Флавио, я гомосексуалист, я люблю мужчину тридцати лет и хочу уйти жить с ним. Вот и все. Я все сказал. И у меня сразу полегчало на душе.
— Что?! — прохрипел я, пытаясь проглотить кусок курицы, который застрял у меня в горле.
— Я гей, и точка. К этому мне нечего добавить. Кроме того, и вы должны знать это, что он тоже любит меня. Он серьезный человек, женатый… точнее, был женат, но сейчас он ушел из семьи и ждет развода, он врач, хорошо зарабатывает, у него сын шести лет, ошибка молодости, случается. Но вы не беспокойтесь, ребенок пока не будет жить с нами, мы будем брать его только на уик-энд… Я не буду для него мамой, успокойтесь!
Мать ойкнула и залилась слезами, отец налился кровью от ярости, я потерял дар речи, хотя и проглотил застрявшую курицу.
Франческо, не давая времени никому опомниться, поднялся из-за стола:
— Извините, я не голоден.
Ушел в свою комнату и закрылся на ключ.
В доме наступил конец света. Отец рвался немедленно его убить, повторяя: «Лучше мертвый сын и я в тюрьме, чем сын-педераст». Бедняжка мама пыталась успокоить папу, громко причитая: где мы совершили ошибку, где? Я был настолько ошарашен, что не мог членораздельно произнести ни слова.
Дав немного улечься в себе страстям, я постучался в его комнату. Папа уже звонил другу-профессору, чтобы уговорить его подлечить Франческо, а мама пыталась искать плюсы в сложившейся ситуации.
— Франческо, я могу войти?
— Конечно, входи, дверь открыта, я ждал, что ты придешь.
Франческо лежал на кровати, вытянувшись и положив руки под голову. Он выглядел совершенно спокойным. В комнате на полную громкость гремел проигрыватель. (Мы звукоизолировали его жилище в связи с постоянными жалобами соседей.)
— Я могу сделать музыку потише? Иначе мне придете, кричать.
— Валяй. Только чуть-чуть. Это же «Дорз», не знаю, понимаешь ли ты меня.
— Франческо, мы можем поговорить?
— Валяй. Если хочешь.
Я был в замешательстве, не зная, с чего начать.
— Видишь ли, Франческо… гхм… Я не имею ничего против… Клянусь тебе… Может быть, это даже моя вина… То есть я должен был бы заметить, помочь тебе, быть рядом… Бог мой, да в этом нет ничего плохого, в истории полно великих мужчин, которые… Оскар Уайльд, Юлий Цезарь, Микеланджело… это не болезнь, не порок, тем более если… гхм… вы любите друг друга… Однако… может быть, это пройдет…
Он посмотрел на меня с недоумением и сказал:
— Пройдет? Что пройдет? Микеланджело… Юлий Цезарь… что за хреновину ты порешь?
— Ладно, Франческо, я вижу, что с тобой бесполезно что-либо обсуждать… — Но все-таки я продолжал: — И давно ты себя им ощущаешь?
— Им — кем?
— Им… гхм… гомосексуалистом…
— А с чего ты взял, что я стал гомосексуалистом? Я что, по-твоему, мог им стать? Флавио, ты совсем сдурел? Несешь какой-то собачий бред… Да я сказал это просто, что-бы позлить папу! Потрепать ему как следует нервы, он этого заслуживает. Ну и как он? На стену лезет от бешенства?..
Таким был Франческо в семнадцать лет, и сегодня, ему уже тридцать, он не слишком-то изменился.
С тех пор как два года назад я развелся, моему брату взбрело в голову подыскать мне кого-нибудь. На самом деле в этой сомнительной инициативе намного большую настойчивость проявляет его жена Лаура. Она убеждена, что именно из-за моей подвешенной ситуации мой брат в течение почти двух лет находится в таком нервном состоянии. Может, она и права.
Флавио на десять лет старше меня и питает ко мне отеческие чувства, учитывая тот факт, что папа плохо справлялся со своими обязанностями, по горло занятый нашей процветающей семейной фирмой. Что, впрочем, не мешало ему подвергать меня пыткам буржуазного воспитания. В этом не было чувства, а был сплошной расчет. Он полагал, что в отношениях отца и сына главное и единственно верное — это облагодетельствовать чадо строгими поведенческими директивами, цель коих — овладение базовыми постулатами отцовской жизненной философии, касающимися дисциплины, работы, семьи. Для моего отца предприятие и семья было единое целое, предать одно, что в результате сделал я, означало предать другое. Этого он никогда мне не простил.