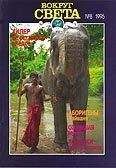На следующее утро, заняв место во главе широкого стола, вокруг которого расселись тайбейские этнологи, я вдруг почувствовал себя в своей тарелке. В конце концов, несмотря на разделяющие ученых дистанции, традиции, материальные условия, языковые барьеры и, черт знает, что еще, когда они собираются послушать доклад, то образуют собой невероятно похожие сообщества. Как правило, эти научные судилища гуманны, и если докладчик, с точки зрения большинства присутствующих, не полный кретин и не абсолютный зануда, скорее всего ему будет оказана милость. Судя по вопросам, последовавшим за моим докладом, аудитория отнеслась ко мне сочувственно. Единственный ехидный вопрос задал японский лингвист, занимавшийся полевым изучением языка бунун. Этот баловень судьбы пожелал узнать, как я расцениваю доказательность своих тезисов. Я кротко ответил ему, что сравнительная фольклористика ограничивается выдвижением гипотез, и заметил, что лингвистика была бы явно неполна без этимологии, также не отличающейся особой доказательностью. Все рассмеялись, и, по-моему, мне был вынесен оправдательный вердикт.
Следом за лекцией потянулись беззаботные дни. Я выполнил свои обязанности перед институтом этнологии, но впереди мерцало данное мне полуобещание моего попечителя Сюя — свозить меня, буде случится оказия, к аборигенам. Наслаждаясь свободным временем, я осмотрел не особенно большую, но богатую экспозицию институтского музея, посвященную туземцам. Музей, расположенный в цокольном этаже, был совершенно пуст, и я без помех глазел то на легкие нарядные лодочки ями — еще одного австронезийского племени, живущего на острове Леньюй, или Ботел Тобаго, то на реконструкцию бунунского жилища — низенького глухого домика из шиферных плит, столь же совершенного, сколь унылого с виду, то на железные ножи с загадочными бронзовыми рукоятками, с незапамятных времен передававшимися от отца к сыну у пайванов. Я ликовал, потому что мне довелось увидеть эти творения человеческих рук, которых не видел никто из моих коллег, и грустил от того, что не могу силой воображения наполнить их жизнью.
А потом на два дня я и вовсе уединился в четырех стенах своего временного жилища, отказавшись от вылазок в не столь уж и далекий Тайбей. Дело в том, что, находясь в этой огромной квартире, я уже был в Китае, и мне не нужно было другого. Сам дом, в бельэтаже которого была расположена квартира, казался небольшой Вселенной, эдакая приземистая не то пяти — не то шестиэтажная башня, в которой не ощущалось обитателей. Открыв своим ключом стеклянную дверь единственного подъезда, я оказывался в затемненном холле, где по левую сторону жила семья смотрителя, в которой никто не говорил по-английски. Моя дверь была в глубине холла, справа, и перешагнув свой порог, я оказывался в пространстве, лишенном привычных связей с окружающим миром, — телефона, радио, телевизора. Даже в окна не доносилось снаружи ни звука: они были плотно задраены и оснащены кондиционерами, отнюдь не лишними на Тайване, пересеченном почти посредине тропиком Рака. Да и выходили эти окна в проулочки, где обычно не было ни души.
Тишину нарушало только монотонное гудение кондиционеров и голоса мебели в просторной гостиной — тяжелых резных стульев, лакированного круглого стола с вертящейся круглой нашлепкой в центре столешницы, кожаного дивана и кожаных кресел, овального столика на устойчивых вогнутых ножках... Мебель говорила о незыблемости традиций, о неизменном, освященном веками семейном и государственном укладе, и было странно, что все это происходит в квартире, давно уже принадлежащей научному учреждению и предоставляемой от случая к случаю приезжим европейцам.
Наслушавшись голосов своей квартиры, я уходил в самую маленькую из задних комнат, ту, где помещался незатейливый письменный стол да узенькая кушетка. Подсаживался к столу и раскрывал небольшую книгу с ярким фотоколлажем на глянцевой обложке. Книга была озаглавлена «Культура, личность, адаптация. Психологическая антропология двух малайско-полинезийских групп на Тайване». Ее написал профессор Сюй, и чем дальше я ее читал, тем труднее мне было от нее оторваться.
Несколько лет назад Сюй задался, оказывается, целью выяснить, почему приморское племя ами, в общем, довольно удачно вписывается в современное плюралистическое общество, а значительная часть гордого охотничьего племени атаялов находятся в состоянии перманентного стресса, и сказывается это у них в частых разводах, пьянстве и высокой смертности (и это при том, что жизненный уровень у тех и других примерно одинаков — около 40 процентов среднетайваньского, что по нашим здорово много много!). Кропотливое изучение племенного и семейного уклада обеих групп привело ученого к выводу, что традиции атаялов (в отличие от культурного наследия ами) не только не помогают, но отчаянно мешают им приспособиться к новой жизни, и без особого подхода со стороны правительства племени этому не спастись. «Поведенческие отклонения или страдания не должны быть уделом меньшинств на Тайване или в иных местах», — на безукоризненном английском завершал свою книгу профессор Сюй, и в этом месте, мне казалось, что буквы, образующие текст, дрожат, укрупняются, отливают красным. «Страдание меньшинства неизбежно приводит к страданиям общества в целом. Только наблюдая воочию достижения меньшинств, мы можем с уверенностью говорить о подлинном прогрессе всего общества».
Мое уединение с книгой профессора Сюя прерывал ее заботливый автор. В пятницу, за два с лишком дня до моего отъезда, он повез меня в расположенный неподалеку новый Музей аборигенов. Его основателем оказался богатейший коллекционер Линь Цинфу. Безупречно отделанное компактное пятиэтажное здание музея выглядело невероятно импозантно, и использованные архитектором немногие элементы туземных жилых построек изящно подчеркивали современность его творения. В общем, музей как некое архитектурное чудо вступал в тайное состязание с экспонировавшейся в нем этнографической коллекцией, полнота которой не поддается описанию. Под одни музыкальные инструменты — свирели, свистульки, пищики, ксилофоны, какие-то луки с тетивой-струной — было отведено, по-моему, несколько витрин, и это был, поверьте мне, самый скромный раздел экспозиции.
Если вы представите себе, что при этом в залах шла негромкая трансляция племенных ритуальных песен (божественно прекрасных!), на телеэкранах чуть ли не в каждом зале демонстрировались соответствующие видеофильмы (процесс ткачества, изготовления горшков и т.д.), а в кинозале каждые два часа шел кинофильм об аборигенах, то, может быть, поймете, почему, несмотря на предостережение Сюя («Завтра в город придет тайфун»), я на следующее же утро снова помчался в музей. Увы! Хотя тайфун дотащился до Тайбея при последнем издыхании и наказал меня за нахальство всего лишь вывернутым наизнанку зонтиком да промокшей до нитки одеждой, музей по случаю тайфуна оказался закрыт. Это маленькое фиаско не слишком меня огорчило, поскольку я уже знал, что на следующий — последний — мой день на Тайване я встречусь с атаялами.
Что говорить — я прекрасно понимал: меня ожидает увеселительная поездка в ближайшее к Тайбею атаяльское поселение Вулай, куда бывших охотников за головами заставили спуститься с высокогорья несколько десятков лет назад, а непритязательных туристов возят теперь угощать танцами тайваньских горцев; но садясь в машину с ассистентами профессора Сюя, я сознавал и другое — что через два-три часа я соприкоснусь с коренными обитателями прародины Нусантары, Малайского мира, простирающегося ныне от островов Пасхи до Мадагаскара и от Северного Тайваня вплоть до острова Роти в Тиморском море, откуда рукой подать до Австралии.
Мы выбрались из пригорода Тайбея и покатили вверх по долине стремительной реки Наньшуй, любуясь обступающими нас лесистыми склонами предгорий и подернутыми голубой дымкой пологими вершинами на горизонте. Я ни за что не угадал бы, что очередной раскинувшийся по оба берега Наньшуя поселок и есть место нашего назначения, если бы не ярко раскрашенный муляж охотника с копьем в кокетливой набедренной повязке у самого въезда. Наша машина остановилась у входа в ресторан, где проходило шумное торжество по случаю назначения нового начальника местной администрации. Председатель был китайцем, и чествовали его китайцы, составлявшие добрую половину жителей Вулая. Но человек в белой рубашке с галстуком, подошедший к нашему столику, не был китайцем. Он был похож скорее на кавказца или на американского индейца. Это был Алоу-Хола, преподаватель местной атаяльской школы, предложивший нам свои услуги в качестве проводника по Вулаю.
Если вы хотите представить, что испытал я при виде Алоу-Хола, то вообразите, что вы столкнулись лицом к лицу с Дон Кихотом, Алешей Карамазовым или инспектором Мегрэ. И не думайте пожалуйста, что ученый, всю жизнь читающий или пишущий о перуанцах, тайваньцах или готтентотах, в глубине души больше верит в их существование, чем читатель романов — в реальность их героев! Но мне надлежало скрыть свое ошеломление, воспользоваться любезностью господина учителя Алоу-Хола и проследовать с ним и моими юными китайскими друзьями по избранному им маршруту, что и было сделано, хотя я предпочел бы не расставаться с нашим гидом еще по меньшей мере неделю. Поднявшись по широкой лестнице па склон холма, мы очутились на травянистом дворе-стадионе той самой атаяльской школы, где преподавал Алоу-Хола. Школа выглядела нарядной, просторной и совершенно пустой по случаю воскресного дня. По моей просьбе Алоу-Хола надавал мне учебников начальных классов. Красивые книжки с картинками оказались двуязычными: атаяльские тексты соседствовали в них с китайскими иероглифическими переводами. Как сказала присоединившаяся к нам госпожа Алоу-Хола, служащая волостного управления, многие атаяльские ребята не хотят говорить на родном языке и отвечают родителям по-китайски.