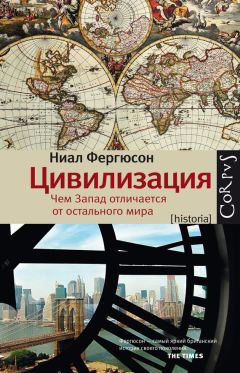Вторая проблема заключалась в неравном распределении собственности. Семья самого Боливара владела 5 большими поместьями, занимавшими более 120 тысяч акров. В Венесуэле после провозглашения независимости почти вся земля принадлежала креольской элите, насчитывающей всего 10 тысяч человек – 1,1 % населения. Контраст с США в этом отношении разителен. Там после Войны за независимость приобрести землю стало еще легче благодаря правительственным кредитам (согласно актам 1787–1804 годов), а также актам “О преимущественном праве покупки земель” (1841; узаконил скваттерство) и “О земельных наделах (гомстедах)” (1861; сделал землю в пограничных областях доступной для занятия небольшими участками). В Латинской Америке ничего подобного не произошло из-за противодействия групп, заинтересованных в сохранении крупных земельных владений в сельской местности и дешевого труда в перенаселенных прибрежных городах. Например, в Мексике в 1878–1908 годах более Mo территории страны было передано в виде больших участков компаниям по освоению земель. В 1910 году, накануне Мексиканской революции, лишь 2,4 % глав домохозяйств в сельских районах вообще имели землю. Нормы земельной собственности в Аргентине были выше (от 10 % в Ла-Пампе до 35 % в Чубуте), но не приближались к показателям Северной Америки. В сельских районах США в 1900 году землей владело почти 75 %[314].
Следует подчеркнуть, что высокие показатели были характерны не только для США. В Канаде норма земельной собственности была еще выше (87 %). Сходные показатели были достигнуты в Австралии, Новой Зеландии и даже в английских колониях в Африке. Это подтверждает, что идея широкого распространения собственности на землю (для белых) не была прерогативой североамериканцев. И по сей день это одно из самых заметных различий между Северной и Южной Америкой. В Перу в 1958 году всего 2 % землевладельцев владели 69 % пахотной земли, а 83 % владели всего 6 % земли, и их наделы составляли не более 12 акров. Таким образом, для англичан, вызвавшихся драться за Боливара в надежде на haberes militares, все закончилось разочарованием. Из 7 тысяч добровольцев, поехавших в Венесуэлу, в живых осталось полтысячи. Три тысячи погибло в бою или от болезней. Остальные отправились домой ни с чем[315].
Третья трудность, тесно связанная с предыдущей, состояла в том, что степень расовой разобщенности в Южной Америке была гораздо выше. Креолы, такие как Боливар, ненавидели peninsulares, что было гораздо хуже вражды между “патриотами” и “красными мундирами” в Массачусетсе. Но и чувства пардо и рабов к креолам были отнюдь не дружественными. Обращение Боливара к чернокожим не было обусловлено его верой в расовое равенство – то был просто вопрос политической целесообразности. Когда Боливар заподозрил Пиара в желании сплотить своих товарищей-каста против белых, того арестовали и судили за дезертирство, неповиновение и заговор. 15 октября 1817 года Пиара расстреляли у стены собора в Ангостуре, и эти выстрелы были слышны в кабинете Боливара[316]. Вообще Боливар не был заинтересован в предоставлении политических прав местному населению. Конституционное требование о том, чтобы избиратели владели грамотой, фактически исключило их из состава политической нации.
Чтобы понять, почему расовое разделение было более сложным в Южной Америке, важно оценить различия, проявившиеся ко времени революции Боливара. В 1650 году индейцы составляли около 80 % населения и Северной, и Южной Америки, включая Бразилию. Однако к 1825 году пропорции стали радикально различаться. В Испанской Америке аборигенные народы составляли 59 % населения. В Бразилии их доля достигала 21 %, а в Северной Америке оно было ниже 4 %. Уже началась массовая эмиграция из Европы в США и Канаду, а лишение индейских народов их земель относительно легко было достигнуто с помощью силы. В испанской Америке индейцев было не только больше. В отсутствие заметной иммиграции они стали необходимы для энкомьенды. Кроме того, как мы увидим, ввоз африканских рабов имел весьма различные демографические последствия в различных европейских поселениях[317].
Таким образом, в итоге южноамериканское единство, задуманное Боливаром, оказалось невозможным. После восстаний в Новой Гранаде, Венесуэле и Эквадоре предложение о создании конфедерации было отвергнуто, да и сама Великая Колумбия распалась, когда из нее вышли Венесуэла и Эквадор. Победителем стал прежний союзник Боливара, диктатор Хосе Антонио Паэс, сторонник венесуэльского национального государства[318]. В декабре 1830 года Боливар (за месяц до смерти – он умер от туберкулеза) сложил с себя полномочия президента и главнокомандующего и впал в отчаяние:
Я правил 20 лет и за это время уверился в нескольких вещах. [Южной] Америкой невозможно управлять. Те, кто служил революции, пахали море. Единственное, что можно сделать в Америке, – это бежать из нее. Эти страны, безусловно, попадут в руки безудержной толпы, чтобы потом перейти во власть мелких тиранов всех цветов и рас, пожираемых честолюбием и гибнущих от руки убийц. Европейцы, наверное, даже не посчитают достойным завоевать нас. Если бы мир мог вернуться в состояние первозданного хаоса, то он соответствовал бы тому, что теперь происходит в Америке[319].
Это очень точный прогноз событий следующего века и вообще половины латиноамериканской истории. Только что ставшие независимыми государства начали свое существование без традиции представительного правления, с глубоко неравным распределением земли и с межрасовой враждой, тесно связанной с экономическим неравенством. Результатом явилась чехарда революций и контрреволюций: неимущие боролись за то, чтобы получить на несколько акров больше, а креольские элиты цеплялись за свои гасиенды. Демократические эксперименты вновь и вновь терпели неудачу, поскольку при первом намеке на экспроприацию элиты облачались в мундир каудильо, чтобы при помощи насилия восстановить статус-кво. Это плохой рецепт для экономического роста.
Не случайно президент Венесуэлы команданте Чавес[320] желает казаться современным Боливаром – и так уважает Освободителя, что в 2010 году даже вскрыл могилу своего кумира, чтобы пообщаться с его духом (в свете софитов). Бывший солдат, поклонник политического театра, Чавес любит разглагольствовать о “боливарианской революции”. В Каракасе вы повсюду увидите на плакатах и муралях длинное, с бакенбардами, лицо Боливара, часто по соседству с широким лицом самого Чавеса. Его режим псевдодемократический: полиция и СМИ используются против политических противников, а доходы от продажи нефти идут на подкуп масс в виде субсидирования импорта и подачек. Имущественные права, столь важные для правовой и политической системы США, нарушаются. Чавес национализирует частные предприятия, от цементных заводов до телеканалов и банков. И, подобно мелкотравчатым диктаторам, которых много знает латиноамериканская история, Чавес насмехается над верховенством права, по своей прихоти изменяя конституцию. Впервые это произошло в 1999 году, вскоре после его победы на выборах, в последний раз – в 2009 году: тогда он обеспечил себе пожизненное президентство.
Ничто не иллюстрирует разницу между двумя американскими революциями лучше, чем следующий факт: у США одна конституция (изменяемая, но неизменная), а у Венесуэлы их пока было 26. Лишь у Доминиканской Республики было больше конституций – 32. Гаити и Эквадор занимают в этом рейтинге третью (24 конституции) и четвертую строки (20 конституций)[321]. В отличие от США, где конституция призвана укрепить “правительство законов, а не людей”, в Латинской Америке конституции служат инструментами низвержения верховенства права.
Но успех английской модели колонизации в Северной Америке не является безоговорочным. Следует признать, что в одном отношении она не сумела превзойти Латинскую Америку. Война за независимость США привела к ужесточению сегрегации. Американская Конституция, при всех ее достоинствах, закрепила это разделение, признав законность рабства – таков первородный грех новой республики. На ступенях Старой биржи в Чарлстоне, где была зачитана Декларация независимости, торговали рабами до 1808 года, благодаря части 9 статьи 1 Конституции США. И представительство Южной Каролины в Конгрессе было определено согласно правилу, что раб “эквивалентен” 3/5 свободного человека.
Как разрешить этот парадокс, лежащий в основе западной цивилизации? Самая успешная революция, когда-либо совершенная во имя свободы, была подготовлена в значительной мере рабовладельцами, в то время как аболиционистское движение набирало силу по обе стороны Атлантики.