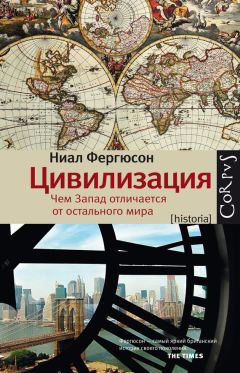Как разрешить этот парадокс, лежащий в основе западной цивилизации? Самая успешная революция, когда-либо совершенная во имя свободы, была подготовлена в значительной мере рабовладельцами, в то время как аболиционистское движение набирало силу по обе стороны Атлантики.
Вот рассказ о двух кораблях, доставивших в Америку совсем других пассажиров. Отправной точкой обоих был островок Горэ в Сенегале. Первый корабль взял курс на Баию, в Северную Бразилию, а второй – на Чарлстон, в Южную Каролину. Оба везли рабов-африканцев – крошечную долю из 8 миллионов людей, не по доброй воле пересекших Атлантику в 1450–1820 годах. Почти % тех, кто приехал в Северную и Южную Америку в 1500–1760 годах, были невольниками. До 1580 года рабы составляли 1/5 иммигрантов, в 1700–1760 годах – до ¾[322].
На первый взгляд, рабство было одним из немногих институтов, которые имелись и в Северной, и в Южной Америке. Владельцы табачных плантаций на юге США и бразильских энженью [сахарных заводов] пришли к одинаковому решению. Как только стало ясно, что труд невольников обходится дешевле, а требовать от них можно большего, чем от законтрактованных европейцев (в Северной Америке) и индейцев (в Южной), они положились на импорт рабочей силы из Африки. Работорговцам за океаном (королю Дагомеи и всем остальным, стоявшим ниже на иерархической лестнице) было, в общем, безразлично, с кем иметь дело: с англичанами, португальцами или с арабами – своими давними партнерами. Транссахарская работорговля шла уже во ii веке. В 1500 году в Бенине португальцы нашли невольничьи рынки[323]. С точки зрения африканца, посаженного под замок в Горэ, кажется, не имело большого значения, куда его повезут: в Северную или Южную Америку. Вероятность его гибели на корабле (16 % рабов не выносило тягот пути) была примерно одинаковой.
Однако положение невольников в колониях Нового Света различалось. Рабство, с древности являвшееся неотъемлемой частью средиземноморской экономики, возродилось в эпоху Крестовых походов, а в Англии оно по существу исчезло. Крепостное состояние (villeinage) ушло из общего права в то время, когда португальцы прокладывали маршрут от западноафриканских невольничьих рынков до Средиземноморья и устраивали сахарные плантации на Мадейре (1455) и Сан-Томе в Гвинейском заливе (1500)[324]. Первые рабы-африканцы попали в Бразилию уже в 1538 году. На территории будущих США не было ни одного африканца до 1619 года. Тогда англичане захватили испанское судно, шедшее в Веракрус, и забрали в качестве трофея 350 рабов. Невольников привезли в Джеймстаун[325]. В Северной Америке не было сахарных плантаций вроде энженью Баии и Пернамбуку, где условия, несомненно, были самыми тяжелыми (из-за невероятно трудоемкой доиндустриальной технологии[326]). Золотые рудники Южной Бразилии (в Минас-Жерайсе и других местах) или кофейные плантации начала XIX века были не намного приятнее. В Бразилию попало гораздо больше африканцев, чем на юг США: страна, уже в 1600 году производившая почти 16 тысяч тонн сахара, быстро обошла страны Карибского бассейна и стала мировым лидером сахарного производства. (Санто-Доминго и Куба достигли сопоставимого уровня значительно позднее[327].) И долгие годы, несмотря на диверсификацию бразильской экономики (производство сахара, добыча полезных ископаемых, выращивание кофе, производство основных предметов потребления), работорговля, а не свободная миграция, оставалась главным источником рабочей силы. Рабский труд применялся почти во всех отраслях экономики[328]. Для Бразилии рабство имело такое значение, что к 1825 году африканцы и их потомки составляли 56 % населения (в испанских колониях – 22 %, в Северной Америке – 17 %). После ликвидации рабства в англоязычных странах оно сохранилось в Бразилии, и в 1808–1888 годах в страну ввезли более 1 миллиона рабов (вопреки англо-бразильскому договору 1826 года, который, как предполагалось, положит конец работорговле). К 50-м годам XIX века, когда ВМФ Великобритании начал серьезно мешать торговле невольниками, рабов в Бразилии стало вдвое больше, чем в 1793 году.
Участь рабов в предреволюционной Латинской Америке была не всегда плачевной. Власти и церковь могли вмешаться (и вмешивались), чтобы облегчить участь рабов, подобно тому, как они могли ограничить и другие имущественные права. Позиция католической церкви состояла в том, что рабство было необходимым злом: приходилось учитывать, что душа есть и у африканцев. Рабам было легче получить свободу на латиноамериканских плантациях, чем в Виргинии. В Баие рабы сами оплачивали половину всех освобождений[329]. К 1872 году 3/5 афроамериканцев и мулатов в Бразилии стали свободными[330]. На Кубе и в Мексике раб мог даже узнать свою цену и купить свободу в рассрочку[331]. Считалось также, что в Бразилии у рабов больше выходных (воскресенья, а также дни чествования 35 святых), чем в английских колониях в Вест-Индии[332]. Начиная с Бразилии, в Латинской Америке стало нормой предоставление рабам земельных участков.
Было бы ошибкой представлять ситуацию в розовом цвете. Когда темпы экспорта быстро росли, некоторые бразильские сахарные плантации функционировали 20 часов в сутки, 7 дней в неделю, и непосильный труд буквально сводил рабов в могилу. Некий бразильский плантатор однажды заявил, что, “покупая раба, он рассчитывал использовать его год (не многие жили дольше) и выжал из того столько, что не просто возместило первоначальные инвестиции, но и принесло хорошую прибыль”[333]. Плантаторы в Бразилии, как и на островах Карибского моря, жили в постоянном страхе перед восстаниями рабов и полагались на жестокость, чтобы поддерживать дисциплину. Обычным наказанием на некоторых бразильских плантациях было новенас – 9-дневное бичевание с “обработкой” ран солью и мочой[334]. В Минас-Жерайсе еще в xviii веке вполне обыкновенным было выставление на обочинах отрубленных голов беглых невольников. Средняя продолжительность жизни бразильского раба в 50-е годы XIX века составляла 23 года. Рабу нужно было выдержать на плантации 5 лет, чтобы его хозяин получил сумму, вдвое превышающую первоначальные инвестиции[335]. С другой стороны, в Бразилии рабы могли вступать в брак (согласно английскому и голландскому законодательству невольники этого права не имели). К тому же португальские и испанские законы, регулировавшие положение рабов, со временем смягчались.
Североамериканские рабовладельцы чувствовали себя вправе обходиться со своим имуществом так, как считали нужным, вне зависимости от того, было ли это имущество землей или людьми. Поскольку число рабов росло (к 1760 году невольники составляли почти треть населения Британской Америки), власти жестко разграничили статус белых сервентов, обычно заключавших контракт на 5–6 лет, и статус чернокожих невольников, поступавших в пожизненное услужение. Закон Мэриленда 1663 года определял: “Все негры или другие рабы… должны служить durante vitae [пожизненно]; и все дети, родившиеся от любого негра или другого раба, будут рабами, как были их отцы”[336]. Со временем североамериканские законы о рабстве лишь ужесточались. Закон Виргинии 1669 года не считал уголовно наказуемым деянием убийство хозяином своего раба. Закон Южной Каролины 1726 года определял, что рабы являются “имуществом” (позднее “личным имуществом”). Бичевание не только поощрялось, но и было предусмотрено законодательством[337]. Положение рабов стало настолько плачевным, что невольники из Каролины, решившиеся на побег, отправлялись в Испанскую Флориду (губернатор даже предоставил им автономию – при условии принятия католичества)[338]. Этот удивительный поворот (рабовладение, как мы видели, в самой Англии давно исчезло) показывает, как европейские институты легко видоизменялись, будучи пересаженными в американскую почву. Некий виргинский магистрат точно уловил противоречие, лежащее в основе “особенного института” рабства: “Рабы не только собственность, но также и разумные существа, и поэтому могут рассчитывать на гуманность суда, когда тот не попирает имущественные права”[339]. Работорговцы подставили себя под удар аболиционистов лишь тогда, когда переступили черту. В 1782 году капитан ливерпульского судна “Зонг” из-за нехватки питьевой воды утопил в море 133 живых скованных невольника. Примечательно, что прежде чем Олауда Эквиано привлек внимание аболициониста Грэнвиля Шарпа к сути произошедшего на “Зонге”, работорговцев преследовали по суду лишь за мошенничество со страховкой[340].