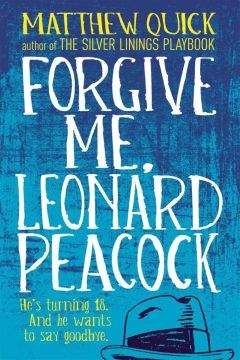Эти наблюдения привели Ньютона к теории цвета и света, над которой он трудился с 1666 по 1670 год. Результатом стал вывод – когда Гук назвал его «гипотезой», Ньютон рассвирепел, – что свет состоит из крошечных «корпускул», вроде атомов. Теперь-то мы знаем, что Ньютонова теория ошибочна в частностях. Действительно, представление о корпускулах света вернется к жизни через несколько веков, в работах Эйнштейна, и ныне мы называем эти корпускулы фотонами. Но фотоны Эйнштейна – квантовые частицы, и они в теорию Ньютона не укладываются.
Хотя работа Ньютона над усовершенствованием телескопа принесла ему славу, представление о световых корпускулах было воспринято во времена Ньютона, как это вышло и с Эйнштейном, с большим скепсисом. А в случае с Робертом Гуком, чья теория описывала свет состоящим из волн, – с неприятием. Более того, Гук жаловался, что Ньютон лишь слегка видоизменил его эксперименты, которые Гук поставил первым, и выдал их за свои.
Годы беспорядочного питания и бессонных ночей, проведенные в оптических исследованиях, привели Ньютона к интеллектуальному сражению, которое быстро сделалось озлобленным и жестоким. Что еще хуже, Гук был человеком порывистым и рубил с плеча – сочинял ответы Ньютону всего за пару часов, тогда как Ньютон, педантичный и тщательный во всем, ощущал нужду отвечать со всей прилежностью. На один такой ответ у него как-то раз ушло несколько месяцев.
Но да пусть ее, личную вражду: так состоялось знакомство Ньютона с публичной стороной нового научного метода – с открытым обсуждением и стычками идей. Ньютону не понравилось. Он, и без того склонный к уединению, из ученого общения устранился.
Заскучав от математики и разозлившись на критику своей оптики, к середине 1670-х Ньютон, к тому времени слегка за тридцать, но уже седой и обычно непричесанный, практически отрезал себя от всего научного сообщества. Отрезанным он и остался – на целый десяток лет.
Нетерпимость к противостояниям стала не единственной причиной его вновь обретенной почти полной изоляции: за предыдущие несколько лет, даже работая в математике и оптике, Ньютон начал уделять все больше времени своих сточасовых рабочих недель двум новым увлечениям, которые он не стремился ни с кем обсуждать. То были «безумные» исследовательские программы, за которые его с тех пор часто критикуют. И, конечно, они лежали сильно в стороне от столбовой дороги научных интересов: математический и текстовый анализ Библии – и алхимия.
Позднейшим исследователям решение Ньютона посвятить себя трудам по теологии и алхимии часто казалось непостижимым, словно он забросил писать статьи для журнала «Нейчер» и предпочел сочинять буклеты для сайентологов. Осуждение это, правда, не берет в расчет подлинного размаха затеи: задача, объединявшая усилия Ньютона в физике, теологии и алхимии, была одна и та же – постичь истину этого мира. Интересно всмотреться, хотя бы коротко, в эту работу – не потому, что она привела к верному ответу, и не потому, что доказывает, будто у Ньютона случались приступы сумасшествия, но потому что она делает зримой зачастую тонкую грань между научным поиском, который в итоге оказывается плодотворным, и бесплодными усилиями.
Ньютон верил обещаниям Библии, что истина будет явлена людям набожным, хотя некоторые стороны этой истины одним лишь чтением текстов не увидеть. Верил он и в то, что набожные люди прошлого, включая великих алхимиков вроде швейцарского врача Парацельса, обрели важные прозрения и включили их в свои работы в зашифрованном виде – чтобы скрыть от неверных. Выведя закон всемирного тяготения[201], Ньютон уверился, что Моисей, Пифагор и Платон постигали этот закон задолго до него.
Что Ньютон превратил свои замыслы в математический анализ Библии, понять можно – с его-то талантами. В ходе работы он обратил внимание на точные даты Творения, постройки Ноева Ковчега и других библейских событий. На основании библейских текстов он рассчитал и неоднократно пересмотрел предсказания конца света[202]. В одной из последних версий мир придет к своему концу где-то между 2060 и 2344 годами. (Не могу сказать, окажется ли это правдой, но, как ни странно, это предсказание точно совпадает с некоторыми сценариями глобальной перемены климата.)
Вдобавок Ньютон усомнился в подлинности многих фрагментов текста Библии и пришел заключению, что имел место впечатляющий подлог, исказивший наследие ранней Церкви в пользу представления о Христе как о Боге, что Ньютон считал идолопоклонничеством. Вкратце: Ньютон не верил в Святую Троицу, что в его положении профессора Колледжа Троицы может показаться забавным. Придерживаться таких взглядов было опасно: Ньютон мог запросто потерять и свое положение, и, вероятно, кое-что посерьезнее, узнай о его воззрениях кто-нибудь неподходящий. Но Ньютон, разбираясь в христианстве, был в отношении публичности своих работ крайне осмотрителен: невзирая на то, что эти труды посвящались религии, а не революции в науке, Ньютон считал их наиболее важными.
Вторая страсть Ньютона в те годы, алхимия, тоже поглощала колоссальные время и силы, и эти исследования продолжались тридцать лет – куда больше, чем он когда-либо посвящал физике. Денег они тоже требовали немало: Ньютон не только оснащал себе алхимическую лабораторию, но и собирал библиотеку. Здесь тоже легко пренебречь этими его исканиями как ненаучными – и ошибиться: как и прочие свои исследования, алхимические Ньютон проводил с тем же тщанием и, с учетом его глубинных взглядов, с той же добротной аргументацией. В этой области Ньютон также пришел к выводам, которые нам трудно понять, поскольку рассуждения его укоренены в контексте, для нас совершенно незнакомом.
Ныне мы представляем себе алхимиков бородатыми мужчинами в мантиях, произносившими заклинания в попытках превратить мускатный орех в золото. Конечно, первый известный нам алхимик – египтянин по имени Болос из Мендеса, живший около 200 года до н. э., который завершал каждый «эксперимент» заклинанием: «Одна сущность в другой утешается. Одна сущность другой истребляется. Одна сущность другой подчиняется»[203]. Смахивает на перечисление возможных событий в брачном союзе двоих людей. Но сущности, о которых говорил Болос, – химические вещества, и Болос в химических реакциях явно кое-что смыслил. Ньютон верил, что в далеком прошлом ученые, подобные Болосу, открыли глубинные истины, с тех пор утерянные, но восстановимые путем анализа греческих мифов, кои, по убеждению Ньютона, не что иное как зашифрованные алхимические рецепты.
В своих алхимических изысканиях Ньютон, сохраняя тщательность научного подхода, провел великое множество продуманных экспериментов с подробнейшими описаниями. Будущий автор «Принципов», часто именуемых величайшей книгой в истории науки, провел многие годы, исписывая тетради лабораторными наблюдениями вроде вот таких: «Растворить летучего зеленого льва в центральной соли Венеры, перегнать. Полученный спирит есть зеленый лев кровь зеленого льва Венеры, Вавилонский Дракон, убивающий все своим ядом, но, побежденный смягчением Горлиц Дианы, есть Узы Меркурия»[204].
Начиная карьеру в науке, я поклонялся ее героям, Ньютонам и Эйнштейнам – и историческим, и современным гениям вроде Фейнмана. Вступать в поле, на котором родились все эти великие, – дело для юного ученого требовательное. Я ощутил это давление величия, когда получил место в Калтехе[205]. Похоже я себя чувствовал накануне первого дня в старшей школе, когда боялся идти на занятие по физкультуре и особенно мыться потом в ду́ше на глазах у других пацанов. В теоретической физике оголяешься – не физически, но интеллектуально, и все на тебя смотрят – и выносят суждения.
Об этих неуверенностях редко говорят, ими редко делятся, и все же они обычны. Любому физику приходится искать собственный способ преодолевать это напряжение, но, чтобы достичь успеха, одного последствия следует избегать каждому: боязни ошибиться. Томасу Эдисону часто приписывают совет: «Чтобы вышел отличный замысел, плодите их обильно». И, разумеется, любой новатор проходит гораздо больше тупиков, нежели достославных бульваров, и потому бояться ошибиться поворотом означает наверняка никогда не прийти в какое-нибудь интересное место. И потому я в те свои времена был бы рад услышать обо всех Ньютоновых заблуждениях и впустую потраченных годах.
Тем, кому утешительно знать, что люди блистательно правые тоже иногда ошибаются, сообщаем: даже гений, подобный Ньютону, может заблуждаться. Да, он догадался, что тепло есть результат движения крошечных частиц, из которых, как он считал, состоит вся материя, но он же, подумав, что заболел туберкулезом, прописал себе «лекарство» из скипидара, розовой воды, пчелиного воска и оливкового масла. (Это снадобье считалось целительным и при болезнях грудей, и от укуса бешеной собаки.) Да, он изобрел математический анализ, но полагал, что поэтажный план затерянного храма царя Соломона в Иерусалиме скрывает математические подсказки касательно конца света.