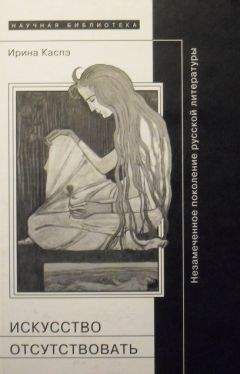Они интереснее романа: герой, персонаж, читатель
Чтобы заявить о себе как о поколении, «молодым эмигрантским литераторам» пришлось предъявить своего героя, особую антропологическую конструкцию, «человека 30-х годов». Инструменты для такого конструирования у них, безусловно, были. Для историков европейского романа межвоенные годы — период активных экспериментов с инстанцией персонажа, с повествовательной оптикой, со способами манифестации нарративного «я»[446]: именно представления о человеке оказываются в центре тех литературных событий, которые позднее будут названы «кризисом традиционного повествования». В эмигрантском литературном сообществе все эти темы артикулируются, хотя, возможно, и не самым радикальным образом. Первые попытки посмотреть на историю литературы как на область культурной истории опираются именно на конструкцию героя, персонажа: «герой» здесь — точка пересечения культурных трансформаций, которые претерпевают представления о личности, с одной стороны, и о литературе — с другой[447]. В рецензиях, обзорах, очерках именно «герой» вытесняет проблемы «композиции», «сюжета», «стиля», «детали» — всех тех «приемов», о которых эмигрантским литераторам неинтересно говорить. «Герой интереснее романа» — заглавие неопубликованной полностью книги Сергея Шаршуна довольно точно характеризует ситуацию.
С таких позиций и создается образ «молодой эмигрантской литературы» в целом: обозначить «новую литературу» как особое явление можно, только дав определение ее герою, причем герой призван персонифицировать и новый культурный опыт, и новые техники литературной манифестации этого опыта. Иными словами, конструкция героя позволяет объявить одновременно о появлении нового поколения и новой литературы, а значит, именно этой конструкции мы обязаны тем, что образы «литературной школы» и «поколения» в данном случае столь сложно переплетаются и в принципе неотделимы друг от друга. Каким оказался новый герой в описании «молодых» критиков, мы выяснили в предыдущих главах — его черты задаются при помощи метафор несуществующего существования. «Внутренний», «подпольный» человек обитает в «социальной пустоте» и собственно сам пуст, нищ, наг, бесформен[448]. Способ утвердить пустую, стертую конструкцию в качестве поколенческого символа — ее героизация. Тема героя усиливается темой героизма: «внутренний», незаметный герой совершает свой незаметный «внутренний подвиг»[449].
Понятно, что, читая Набокова-Сирина, апологеты «нового героя» регистрируют прежде всего «отсутствие человека»[450]. Более пространно и более образно ту же претензию высказывает Адамович, прочно закрепляя за Набоковым амплуа кукловода, создателя роботов, коль скоро его героям недостает «чего-то неуловимого и важнейшего: последнего дуновения или, может быть, проще: души»[451]. Та же недостача — «отсутствие человека», — хотя и несколько иным образом, обнаруживается у Газданова: в рецензиях на его прозу явно господствует образ холодного наблюдателя, безразличного к своим героям, из-за чего «у действующих лиц нет никакой судьбы» (Вейдле), «каждый персонаж как будто застыл в навязанной ему позе» (Адамович)[452]. Собственно конструкция героя и позволяет противопоставить холодный талант живому, хотя и невнятному, несовершенному творчеству: Набоков, по всеобщему признанию, умеет «строить сюжет», «не в пример многим вводит в свои произведения фабулу»[453], о Газданове говорят как о мастере ритма и стиля, но все эти умения обычно кажутся рецензентам второстепенными, если не бессмысленными. Газданов, безусловно, оказывается тут в более выгодном положении — вместе с маской наблюдателя он получает право числиться героем собственных произведений и пусть равнодушно, поверхностно, но все же фиксировать реальное; Набоков же, по мнению его первых критиков, манипулирует тенями и соглядатайствует лишь в выжженном мире своего воображения.
Итак, с конструкцией героя, персонажа связано несколько интересных для нас проблем. Подчеркнем — пока мы говорим только о литературной критике, то есть о тех высказываниях, которые имеют отношение к сфере должного и формируют представления о норме. Во-первых, эта конструкция позволяет задать ценностную шкалу, используя знаки и атрибуты литературы и в то же время их ниспровергая: вверху шкалы окажется некая тавтологическая фигура, героический герой, воплощающий в себе символы поколения, живой, реальный, хотя и не вполне заметный; внизу — лишенный души персонаж, робот, марионетка, игрушка в руках равнодушного автора.
Во-вторых, шкала герой/персонаж проецируется на область «внутренних», «субъективных» переживаний и ощущений (открытия «новейшего», «модернистского» романа присваиваются через заимствованную у Достоевского метафору «подполья»), В результате такого наложения из разговора о литературном тексте вытесняются категории поведения, действия, а следовательно, и мотивации, цели, ролевой структуры, конфликта. Речь о персонаже как действующем лице и о литературном тексте как сцене, на которой разворачивается действие, может идти только применительно к нижним уровням шкалы. И в этом случае территория действия помечается как иллюзорная, обманчивая, а чаще всего — мертвая, выжженная; все происходящее здесь неописуемо — обычно потому, что лишено смысла, иными словами — не мотивировано. Это пространство авторской памяти или авторского воображения, и чем большую роль в нем играет вымысел, тем менее живым кажется ландшафт, тем несамостоятельнее, послушнее, бездушнее персонажи — в пределе они превращаются в зеркальных двойников автора: «..Место действия — не тот или иной город, а душа автора, память» (Николай Оцуп о «Вечере у Клэр» Газданова)[454]; «…Сейчас он (Сирин. — И.К.) находится как бы в зеркальной комнате, где даль бесконечна и где бесконечное число раз повторяется все то же лицо» (Георгий Адамович об «Отчаянии»)[455]. Только высокий образ героя, «внутреннего человека» способен поглотить безжизненное, бессмысленное, пустое пространство, стереть дистанцию, отделяющую автора от множественных персонажей-двойников. Представления о тексте стягиваются к одной повествовательной инстанции — это одновременно и автор, и нарратор, и действующее лицо (фигура «героя» тут становится настолько влиятельной, что Ходасевич считает необходимым напомнить: «Герой есть Автор минус Поэт: Автор, лишенный своего поэтического, творческого начала»[456]; однако такая сухая формула слишком далека от «живых» экспериментов с поколенческой атрибутикой). Характеристики, при помощи которых выражается неприятие текста как территории действия, — пустота, бессодержательность, бессмысленность — включаются в конструкцию «нового человека» и, будучи персонифицированными, охотно принимаются. Ликвидируя неинтересные вопросы о том, как устроен текст, замещая собой все его атрибуты, «эмигрантский молодой человек» (мы по-прежнему имеем в виду идеальный, декларативный конструкт, не встречающийся, да и не возможный ни в одном конкретном произведении) не знает равных, не сталкивается с «другими», то есть оказывается по ту сторону символических характеристик действия: «…Отказ, обеднение, решимость выдерживать одиночество, выносить пустоту — самое значительное, что приобрело новое поколение»[457]. Таким образом обесцениваются механизмы драматического проигрывания смыслов, значимые для модернистских «внутренних пространств», позволившие впоследствии воспринимать европейскую «эстетическую революцию» межвоенных лет как открытость множеству точек зрения, множеству реальностей и ролей, — в этом смысле, скажем, Питер Бергер говорит о «человеке без свойств» как о «человеке возможности»[458]. Мишель Зераффа описывает эти драматические ресурсы как разрыв и взаимодействие между двумя категориями самости: «ролью» и «существованием», «бытием». «Внутреннее», «психологическое» существование не совпадает с многочисленными «социальными» ролями, в рамках которых личность предъявляет себя другим[459]. При помощи шкалы герой/персонаж эмигрантские критики превращают личностный конфликт в институциональный: литература героя, литература существования противопоставляется той литературе, в которой «отсутствует человек» и разыгрывают роли бездушные персонажи.
«Новейшие», «модернистские» представления о литературном персонаже как о конгломерате различных оптик и соответственно различных ролей игнорируются эмигрантской критикой, но активно осваиваются эмигрантскими литераторами. Впрочем, поскольку в центре нашего внимания остается «персонаж», методологически уместнее будет дальше говорить не о «литературе» в целом, а преимущественно о прозе, о нарративе. Разрыв между «существованием» и «ролью», или, говоря иначе, утрата устойчивой идентичности, невозможность посмотреть на себя глазами другого — в художественной прозе помечается именно как проблема, конфликт. Эта проблема не только конституирует повествование, не только устанавливает сложные отношения между различными нарративными инстанциями, но и отчетливо проговаривается, причем одна и та же риторика явно объединяет книги Яновского, Поплавского, Шаршуна и, что немаловажно для нас, Сирина-Набокова: «Но кто это „я“, Шелехов? <…> Я могу себя убедить, что я — не я! Я — мой отец. <…> Что же ты? Где ты? По чему узнать свое я? Чем ты докажешь себя? Почти ничем»[460]; «Кто я? Не кто, а что. Где мои границы? Их нет, ты же знаешь, в глубоком одиночестве, по ту сторону заемных личин, человек остается не с самим собою, а ни с чем, даже не со всеми. <…> Вслед за исчезновением тысячи женщин и тысячи зрителей исчезаешь и ты сам, два пустых зеркала не могут отличить себя друг от друга… Где ты сейчас?»[461]; «Нырнувши на дно водоема, видя себя, он вопрошает: „Что такое — я? Кто — я?“ <…> Зеркало — разбилось. Небо — разорвано. Долголиков — погиб в хаосе, перестал существовать»[462]; «Ведь меня нет, — есть только тысячи зеркал, которые меня отражают. С каждым новым знакомством растет население призраков, похожих на меня. Они где-то живут, где-то множатся. Меня же нет»[463].