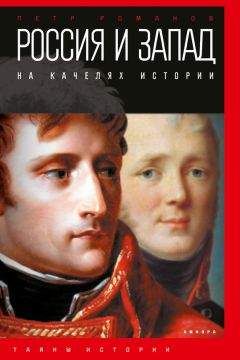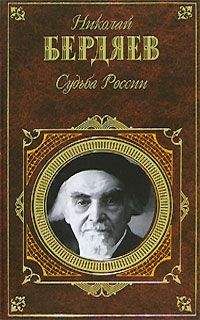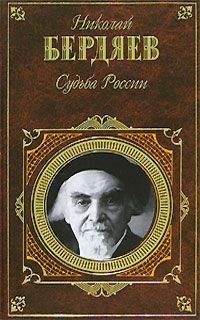Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который приспособляется видеть все в розовом свете и носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы. Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия.
И далее:
…Мне давно хотелось сказать, и я счастлив, что имею теперь случай сделать это признание: да, было преувеличение в этом обвинительном акте, предъявленном великому народу, вся вина которого в конечном итоге сводилась к тому, что он был заброшен на крайнюю грань всех цивилизаций мира… Наконец, может быть, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина.
В ином, далеко не бунтарском тоне выдержаны и личные письма Чаадаева. В письме к известному историку и общественному деятелю той поры Александру Тургеневу философ, например, пишет:
Вы знаете, я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача – дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе.
Все это походило на извинение, но услышано оно не было. «Апология сумасшедшего» впервые появилась в печати лишь в 1906 году, да и то в провинциальной Казани, а письма и не предназначались для тогдашних журналов, так что Чаадаев остался в памяти современников законченным бунтарем, хотя после своей нашумевшей публикации он прожил еще двадцать тихих лет, ничем особенным себя больше не проявив.
В «Философических письмах» действительно много преувеличений и несправедливых упреков. Острое слово там местами возобладало над логикой, что признал и сам Чаадаев. Но это была единственная освежающая родниковая струя посреди усыпляющих сознание теплых вод николаевского национализма.
Герцен сравнил письмо Чаадаева с выстрелом, раздавшимся в темную ночь: «…Тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно, надобно было проснуться».
Как показали дальнейшие события, выстрел разбудил всех, но тех, кто с тревогой начал вглядываться в темноту, оказалось немного. Большинство, от души обругав виновника переполоха, тут же снова погрузилось в сладкие сновидения о России. Той самой, которую (по известным словам славянофила Тютчева) «умом не понять» и в которую «можно только верить».
Попытка хотя бы на время отвлечь русских от самолюбования перед официозным николаевским зеркалом и бесконечных разговоров о своей «особенной стати», чтобы перейти наконец к объективному анализу российской истории и перспектив развития страны, то есть постараться постичь окружающую действительность не только интуитивно, но и умом, – провалилась.
Дырявые туфли Российской империи
Ценя комфорт своих растоптанных домашних тапочек, российский император примерно так же относился и к внутренней политике. Новые, модные на Западе туфли, предложенные декабристами, с точки зрения Николая, не сулили империи ничего, кроме болезненных мозолей. Если Петр заставлял Россию носить иностранные туфли, не жалуясь на неудобства, а Екатерина хотя бы настаивала на их примерке, интересуясь, не жмут ли, новый государь отвергал саму возможность комфортного существования русской ноги в заграничной обуви.
Старые башмаки выглядели, конечно, непрезентабельно – в этом император соглашался с декабристами, – но, как ему казалось, в умелых руках настоящего мастера это было делом поправимым, стоило лишь башмаки почистить, укрепить подметку и наложить заплаты.
Этим Николай Павлович и занимался, причем очень усердно, часто работая по 18 часов в сутки, все свое царствование. Это было время контрреволюции в области идеологии и переходных мер в практической сфере государственного строительства.
По окончании следствия над декабристами новый император распорядился подготовить ему специальную записку, чтобы извлечь из критики и проектов своих оппонентов рациональное зерно. А в беседе с французским посланником Николай I заявил:
Я отличал и всегда отличать буду тех, кто хочет справедливых требований и желает, чтобы они исходили от законной власти, от тех, кто сам бы хотел предпринять их и бог знает какими средствами.
Записку составил делопроизводитель следственной комиссии А. Боровков. Вот ее фрагмент:
Надобно даровать ясные, положительные законы; водворить правосудие учреждением кратчайшего судопроизводства; возвысить нравственное образование духовенства; подкрепить дворянство, упавшее и совершенно разоренное займами в кредитных учреждениях; воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами; направить просвещение юношества сообразно каждому состоянию; улучшить положение земледельцев; уничтожить унизительную продажу людей; воскресить флот; поощрить честных людей к мореплаванию – словом, исправить неисчисленные беспорядки и злоупотребления.
Диагноз в целом поставлен верный, но вот беда: приблизительно о том же говорилось и в начале царствования Александра I. А до этого – во времена Павла I, а и еще раньше – в эпоху Екатерины II. «Неисчисленные беспорядки и злоупотребления» только накапливались, так что объективности ради следует признать, что исходная позиция у нового императора оказалась не лучше, а хуже, чем у его предшественников.
Тем не менее кое-что старательный Николай сделать сумел. Например, свести воедино и как-то структурировать немыслимо запутанную, архаичную и противоречивую законодательную базу Российской империи. Разгрести эти авгиевы конюшни поручили специальной комиссии под руководством Михаила Сперанского. Император за деятельностью комиссии следил лично, пристально и постоянно.
Замечу, кстати, что Николай Павлович, обычно предпочитавший опираться на людей серых (исполнительность ценилась им превыше всего), для выполнения заданий особой важности подбирал, как правило, все же личность неординарную. Крайне ответственную, с точки зрения императора, задачу тотального политического надзора государь доверил способному организатору Бенкендорфу. Идеологический фронт прикрывал такой неглупый человек, как Уваров. Над крестьянским вопросом работал талантливый министр государственных имуществ Киселев (о нем речь пойдет чуть ниже). Наконец, разобраться с российским законодательством император поручил блестящему знатоку русского права Сперанскому.
Эта поистине геркулесова работа была с честью выполнена. Сначала на свет появились 45 томов Полного собрания законов Российской империи, начиная с Соборного уложения 1649 года и кончая документами эпохи Александра I. Затем к ним добавились шесть томов законов, принятых уже Николаем I. Кроме того, комиссия Сперанского издала 15 томов Свода законов, где все законодательные акты расположены по темам и хронологически.
В хаотически плескавшиеся бурные воды российского судопроизводства власть бросила наконец спасательный круг. Предпосылки для широкомасштабной судебной реформы в России были созданы.
Крепостным вопросом император занимался не менее трудолюбиво, чем законодательным. Выступая однажды перед депутацией смоленского дворянства, царь с искренним недоумением говорил:
Я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу себе объяснить этого иначе, как хитростью и обманом, с одной стороны, и невежеством – с другой.
До финиша затяжного марафона царь, правда, так и не добрался, сойдя с дистанции. Впрочем, предпринятые усилия оказались не напрасными: именно Николай Павлович создал необходимые условия для того, чтобы уже его сын, император Александр II, вошел в русскую историю под славным именем Царя-освободителя.
«Сперанским» по крестьянским вопросам был назначен граф Павел Дмитриевич Киселев (в разное время генерал-адъютант, член Государственного совета, министр, посол России во Франции). В годы царствования Александра I Павел Киселев прославился, в частности, тем, что вызвал крайнее неудовольствие всесильного Аракчеева, осмелившись отменить телесные наказания в армии, которой командовал.
Под его началом служили многие будущие декабристы, в том числе Пестель, князья Трубецкой и Волконский. С некоторыми из них командующий даже дружил. Любопытно, однако, что посвятить самого Киселева в заговор никто из декабристов так и не осмелился: все знали о его приверженности реформам и одновременно о глубочайшем отвращении к революционным потрясениям.