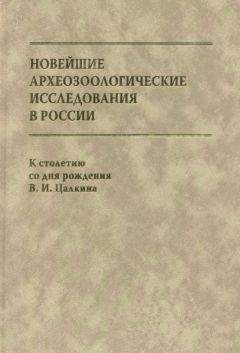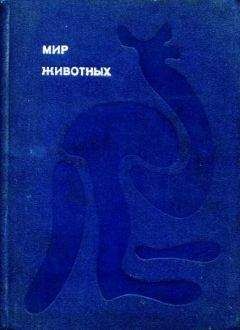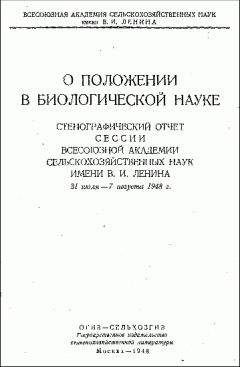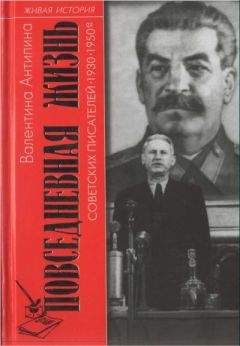Сотни тысяч костей прошло за четверть века через руки Вениамина Иосифовича, сплошь и рядом не отмытых от раскопочной земли. Лаборантов не было. Все эти горы костей надо было разобрать, разложить по лоткам отдельно остатки каждого вида, составить статистические таблицы, отмыть и очистить наиболее выразительные образцы, сделать множество промеров. В своем маленьком кабинете на первом этаже здания на ул. Дм. Ульянова или в разборочной, в цокольном этаже ученый сидел целыми днями. На фоне многих наших археологов, любивших полевую работу, но тяготившихся разборкой коллекций, трудолюбие Цалкина вызывало глубокое уважение, желание подражать. Однако отношение археологов к палеозоологии было очень разным, в чем я убедился, когда в 1963 г. посетил раскопки поселения I тысячелетия до н. э. Кучук-тепе в Узбекистане. У подножия холма я увидел груду костей и спросил руководителя раскопок Л. И. Альбаума, что он собирается с ними делать. «В конце сезона засыплем землей», — ответил он. Я стал убеждать его прислать кости в Москву, договорился с Цалкиным, что он проведет их исследование, сообщил об этом Альбауму, но кости так и не были присланы.
Первоначально Вениамин Иосифович надеялся на то, что коллекции из раскопок позволят обогатить наши знания о былом распространении диких животных. Кое что, действительно, обнаружилось. Раскопки Неаполя Скифского дали кости бобра, дикого кабана, кулана, сайгака — ныне в Крыму полностью исчезнувших. В Гродно костей диких животных было больше, чем домашних — 57 %. Это свидетельство об охоте хозяев феодального замка. Выявились материалы, важные также и для истории зубра. Но в основном на определение поступали кости из поздних памятников, особенно из древнерусских городов (Новгород, Псков, Старая Рязань, Старая Ладога, Москва). Неолитом занимались считанные единицы археологов, да и кости в неолитических слоях обычно плохо сохраняются. Материалы же из поселений эпохи бронзы, городищ раннего железного века и из средневековых памятников состояли почти целиком из остатков крупного и мелкого рогатого скота, лошади и свиньи. Районы, откуда Цалкин получал материал для обработки, это прежде всего Центральная Россия, Украина, Молдавия, Поволжье, Северный Кавказ. Коллекции из Прибалтики, Сибири, Средней Азии доходили до Москвы реже, хотя Цалкин обработал костный материал из раскопок в Хорезме, писал о лошадях из Курганов Алтая.
При такой ситуации нужно было решить, что же делать дальше — ограничиться только формальным определением видов, составлением их кратких списков для археологов (что многих вполне устраивало), или в сущности освоить новую специальность, занявшись изучением пород древнего скота. Вениамин Иосифович пошел по второму пути и сделал много ценного для изучения истории скотоводства в нашей стране.
Динамику развития скотоводства и изменения морфологических особенностей скота Цалкин рассматривал в связи с эволюцией природной среды на той или иной территории. Сложнее обстояло дело со стыковкой выводов биолога и построениями археологов. Большинство археологов реконструировало хозяйство древних людей по собственному разумению, лишь заглядывая в заключения предоставленные зоологами, а то и без этого.
Тяжелая обстановка, сложившаяся в советской биологии после пресловутой сессии ВАСХНИЛ 1948 г., вынудила Вениамина Иосифовича покинуть Зоологический музей и Биофак МГУ. В 1950–1970 гг. ИИМК — ИА АН СССР стал единственным местом его работы. Он знал всех наших археологов 1940-1960-х гг., с кем-то подружился (особенно с А. Л. Монгайтом), кого-то уважал (Б. Л. Гракова, В. Д. Блаватского, Н. Н. Воронина), кого-то отвергал. Помню его слова об одном известном археологе, которого часто называли землепроходцем: «Он скорее землепроходимец». О другом видном археологе говорил: «Имярек всегда работает на аудиторию. С разбойниками — он разбойник, а с честными людьми — пречестный человек». Юмор, переходивший в сарказм, был очень свойствен Вениамину Иосифовичу. Но даже с людьми, ему чуждыми и антипатичными, он неизменно держался вежливо, корректно.
Он посмеивался над тем, как археологи неграмотно пользуются биологической терминологией, над словами Е. Ю. Кричевского: «Животные разных пород: коровы, свиньи, лошади», над пристрастием археологов к выражению «ареал распространения» (что равносильно «масляному маслу»). В целом принятый тогда у археологов подход к науке казался ему — человеку, воспитанному в биологическом мире, приверженцу твердо доказанных фактов, системного мышления — легковесным, дурной беллетристикой, а не подлинной наукой.
А. Л. Монгайт и я внушали Вениамину Иосифовичу, что мы ждем от его трудов не только заключений зоолога, но и критики построений археологов о характере хозяйства древних людей. Он долго от этого уклонялся — конфликтов хватало и в биологической сфере.
Первый же опыт, в который я его втянул, оставил неприятный осадок. Еще до войны Д. А. Крайнов раскопал пещерный навес Таш-аир под Бахчисараем — памятник, вполне обычный для мезолита и неолита Крыма, содержащий пачку малонасыщенных культурных слоев. Крайнов увидел тут нечто иное. Слои охватывают, якобы, огромный период — от мадлена до неолита, а находки в них доказывают зарождение скотоводства в конце палеолита и полное развитие его в мезолите. Основывался этот сенсационный вывод на определении костей из навеса, проведенном другом Крайнова Н. А. Сугробовым, по образованию археологом, а отнюдь не зоологом.
На заседании сектора неолита и бронзового века я возражал против публикации работы Крайнова без проверки определений костей Цалкиным. Заведующий сектором С. В. Киселев со мной согласился. Но Крайнова поддержал тогда A. Я. Брюсов, позволивший себе сказать публично, что Сугробов погиб на фронте, а Цалкин, отсиживавшийся в Ашхабаде, оплевывает светлую память героя. Вениамин Иосифович смотреть кости из Таш-аира отказался.
В итоге остеологический материал все же пришлось переопределить B. И. Громовой и ее ученице Е. Л. Дмитриевой. Как и следовало ожидать, определения Сугробова оказались ошибочными. Кости домашних животных были только в слоях с керамикой. Ю. Г. Колосов убедительно показал, что основные слои Таш-аира — позднемезолитические, палеолита там нет. Но Крайнов повторил свои прежние выводы в опубликованной книге, и кое-кто (например, В. М. Массон) ссылается на эти недобросовестные выводы как на святую истину.
Этот эпизод ухудшил положение Цалкина в институте. С. В. Киселев ввел его после защиты докторской диссертации в состав Ученого совета. Новый руководитель института Б. А. Рыбаков вывел его оттуда. При огромном объеме работы с остеологическими коллекциями зоологу нужен был лаборант. Долго этот вопрос не могли решить. Потом появился Борис Сушко, но вскоре его уволили за чтение недозволенной литературы. Только за два года до смерти Цалкина в штат института была взята В. П. Данильченко.
Мое желание как-то соотнести палеозоологические наблюдения с построениями археологов в конце концов осуществилось. Я был редактором последней книги Цалкина «Древнейшие домашние животные Восточной Европы» и настоял на том, чтобы, говоря об остеологических материалах из трипольских, майкопских и других памятников IV–III тысячелетий до н. э., автор остановился и на реконструкции хозяйства людей, живших на этих поселениях, согласно работам археологов.
Так вспоминается треть столетия спустя деятельность В. И. Цалкина в Институте археологии. Он играл важную роль в жизни нашего института и оставил большой след в развитии палеозоологии. Но главным для него всегда была ситуация в биологическом мире. Более тридцати лет он был тесно связан с Московским обществом испытателей природы. Основанное в 1803 г. и уцелевшее при закрытии большевиками подобных организаций это Общество в 1930-1960-х гг. превратилось в очень важный объединяющий центр для зоологов и ботаников Москвы, где тогда не было академических институтов биологического профиля. Член МОИП с 1938 г. Цалкин был активнейшим его деятелем.
Когда президентом Общества стал учитель его жены Л. А. Зенкевич, в 1953 г. Цалкина назначили заместителем редактора журнала «Бюллетень МОИП, отдел биологический». С 1966 г. он — вице-президент МОИП. В 1955–1967 гг. Общество возглавлял акад. В. Н. Сукачев. Вместе с ним Цалкин развернул борьбу за возрождение подлинной биологии в СССР, печатал статьи гонимых Лысенко ученых и по мере возможности критику псевдонаучных упражнений лысенковцев.
Наши «шестидесятники» шли двумя путями, условно говоря, солженицынским и сахаровским. Первый предполагал неучастие в официальной жизни страны, второй — использование всех легальных возможностей во благо человека и культуры. Цалкин разделял сахаровскую позицию.
После смерти Сталина было позволено вынести на страницы журналов научные дискуссии. «Бюллетень МОИП» воспользовался этим и начал атаку на рассуждения Лысенко о виде в биологии, утверждавшего, что рожь может породить овес, а пеночка — кукушку. Надзиравшие за наукой чиновники ЦК КПСС забеспокоились и вызвали редколлегию журнала для проработки: почему де журнал печатает статьи одних «консерваторов от биологии», игнорируя «передовых ученых». Цалкин посетил всех видных лысенковцев, предлагая им выступить. Все отказались. Ведь сказать-то им было нечего. Тогда в «Бюллетене» просто перепечатали бредовую статью Лысенко «Вид» из Большой советской энциклопедии.