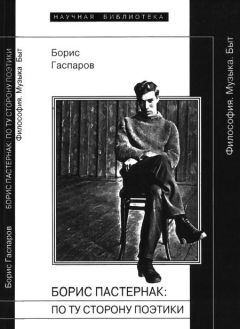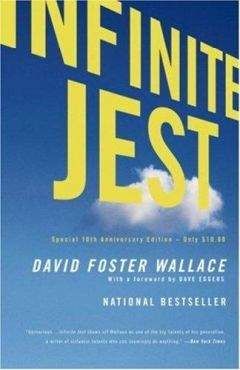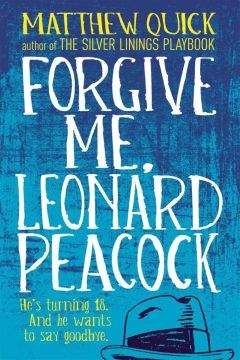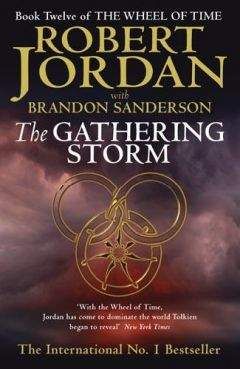Труды Когена, Наторпа и главы баденского неокантианства Риккерта, а также «Логические исследования» Гуссерля Пастернак изучал и конспектировал еще в Москве. Для него должно было быть очевидным, что из всех версий неокантианской и феноменологической критики познания учение Когена является наиболее радикальным, даже исключительным в своем рационалистическом монизме. И совершенный Гуссерлем революционный перенос центра тяжести с категорий разума на сам предмет, и более гибкие версии неокантианства, исходившие из множественности стратегий познания (противопоставление «естественно-научного» и «исторического» воззрения как универсальных модусов познания у Риккерта [Rickert 1902], плюрализм «символических форм» познания у Кассирера [1923–1929]) гораздо ближе к тому, что Пастернак будет говорить о назначении и природе искусства, чем «солдатская» униформность Когена. Более того, мысль об искусстве и науке как альтернативных путях познания, как кажется, оформилась у него именно в период марбургского учения. Вильмонт передает рассказ Пастернака о том, как в конце своего марбургского семестра он изложил эту идею Кассиреру, который объявил, что Пастернак напал на настоящий «клад»[33]. Трудно сказать, в какой степени на это воспоминание могли задним числом повлиять работы Кассирера 1920-х годов, в которых данный тезис получил широкое развитие[34], но не подлежит сомнению, что хотя бы в эмбриональной форме идея посещала Пастернака в годы учения, о чем свидетельствуют и его философские конспекты.
Тем более примечательно, что восторженная похвала Марбургской школе в «Охранной грамоте» подчеркивает как ее главное достоинство строгую «однородность» мысли, сметающей произвольную пестроту ее проявлений («непроглядную отсебятину, извинимую причудами коринфского ордера, готики, барокко или какого-нибудь иного зодческого стиля», по словам Пастернака) как мешающую делу оболочку (ОГ 1:9). Если «ходячая философия» изучает, как думает «тот или иной писатель»; если школьная логика «учит, как надо думать в булочной, чтобы не обсчитаться сдачей», — то «Марбургскую школу интересовало, как думает наука» (ОГ I: 9). В то самое время, когда Пастернак в беседе с Вильмонтом солидаризируется с центральным положением Кассирера о плюрализме форм познания и даже предъявляет права на приоритет, он в главе автобиографии, посвященной Когену, представляет эту идею как хаос эклектической банальности, как бы глядя на нее глазами учителя.
Таким образом, выбор Марбурга как философской Мекки, а в самом Марбурге — именно Когена как идеального духовного наставника не был ни случайностью, ни простой данью харизматической притягательности старого профессора (о которой Пастернак говорит с восхищением). Пастернак отнюдь не заблуждался по поводу «солдатской» безальтернативности мысли учителя, его убежденности, что на всякий вопрос существует единственно верный ответ — как «по таблице умножения идей» (ОГ II: 4). Можно согласиться с Флейшманом (1984: 249), что в портрете Когена в «Охранной грамоте» присутствуют «черты не только пиетета, но и сарказма»; вместе с тем, сравнение с таблицей умножения, как будто явно саркастическое, открывает свою позитивную сторону в имплицитном противопоставлении ее беспредметной универсальности предметным расчетам «в булочной», о которых Пастернаку напоминает прикладная логика.
В частности и в особенности, Пастернак не мог строить никаких иллюзий по поводу взглядов Когена на интеллектуальную ценность художественного познания, и соответственно, на претензию шлегелевской «романтической поэзии» вырваться из ограничений, поставленных чистым разумом, на крыльях свободной творческой фантазии. Именно по этому адресу направлялось пренебрежительное замечание Когена: «Или, может быть, мышление стихами (Verse) является мышлением? <…> Насколько далека красота от истины, настолько же далеко поэтическое мышление <…> от логического»[35]. На эстетическую глухоту Когена (повергшую даже его ближайшего коллегу и союзника Наторпа в некоторое замешательство при рецензировании когеновской «Эстетики чистого чувствования») намекает анекдотический рассказ о смущении, которое Пастернак, захваченный порывом поэтического творчества, испытывает при мысли о том, как признаться в этом неподобающем занятии учителю:
Что я скажу ему? «Verse?» — протянет он. «Verse!» Мало изучил он человеческую бездарность и ее уловки? — «Verse» (ОГ II: 8).
Вложенное в уста Когена слово Verse, повторяемое на все лады, отсылает к его действительному, приведенному выше высказыванию[36]. С таким же успехом собеседником Когена в этом воображаемом разговоре мог оказаться Фридрих Шлегель с его «романтической поэзией».
Противоречие, поистине поразительное, между явной чуждостью учения Когена духовному миру Пастернака, с одной стороны, и его глубокой, хотя и недолговечной поглощенностью этим учением (и не только в самом Марбурге, но и до этого в Москве) и тем одушевлением, с каким он рассказал о нем два десятилетия спустя, с другой, заявляет о себе как серьезная проблема, способная бросить вызов всем нашим усилиям определить философские основания творчества Пастернака.
Закономерным ответом на эту трудность являются попытки приуменьшить масштабы марбургского эпизода. Флейшман сетует на «загипнотизированность» исследователей поездкой в Марбург, «затуманивающей» вопрос о философских взглядах Пастернака. Причину столь рано определившегося интереса Пастернака к Марбургской школе, «столь далекой, казалось бы, от будораживших его тем», Флейшман склонен объяснять скорее отрицательно, в качестве «маскирующего, „метонимического“ хода»[37]. Барнс идет по этому пути еще дальше, говоря о той настойчивости, с которой Пастернак силился следовать путем Марбургской школы, как о «мрачном извращении» (grim perversity) (Barnes 1989: 122). Указав на присутствие в стихотворении «Марбург» реминисценции из стихотворного цикла Белого «Философическая грусть», Поливанов (2006а: 108) делает из этого вывод об имплицитном сочувствии Пастернака скептическому отзыву Белого о «философе марбургском Когене / Творце сухих методологий»; по мысли Поливанова, Пастернак имел готовый сценарий «разочарования» (по Белому) еще до поездки в Марбург[38].
Утверждения этого рода можно признать верными лишь частично. Путь духовных поисков Пастернака и, соответственно, та роль, которую сыграла в них неокантианская философия, представляется более сложным, а главное, глубоко оригинальным.
Притягательность для Пастернака новейшей философской критики познания во многом определялась ее последовательно надындивидуальной и антипсихологической исходной позицией. Антипсихологизм был самым общим основанием, на котором сходились и различные ветви кантианства, и феноменология. Эта черта строгой философской науки позиционировала себя как антипод преобладающему духовному климату рубежа века, с его сосредоточенностью на внутреннем мире личности и культом творческого мессии, единоличным усилием духа разрушающего все объективные препоны на пути к трансцендентному. Глядя на перегретую культурную атмосферу тех лет, когда вступало в жизнь поколение Пастернака, давшее миру так много фигур мессианского масштаба, кажется очевидным, что философия радикально рационалистического направления, с ее установкой на объективное и всеобщее, могла послужить для него своего рода курсом духовной профилактики или, если угодно, вакциной против эпидемических заболеваний века.
В этой связи Флейшман квалифицирует марбургский опыт Пастернака как сознательное избрание «пути наибольшего сопротивления»[39]. Проявившийся в этом эпизоде «страстный, фанатический аскетизм»[40] критик проницательно сопоставил с тем, что Пастернак в это же время написал о Клейсте и его занятиях философской «наукой» как о «подвигах логического очищения»[41]. Добавим, что сходный смысл можно усмотреть в рассказе «Охранной грамоты» о Елизавете Венгерской, на которую ее суровый марбургский наставник возложил аскетический подвиг настолько тяжелый, что она оказалась не в силах его нести (ОГ II: 1).
Однако аскеза по своей природе отрицательна. Именно в этом ключе Флейшман интерпретирует философский «подвиг» Пастернака: как отказ от соблазна «скороспелого синтеза» (музыки и слова, науки и поэзии, искусства и жизни), столь характерного для Серебряного века, в частности для Андрея Белого[42], — согласно Пастернаку, писателя гениальной одаренности, которого погубило творческое своеволие[43]. Само по себе это объяснение убедительно, но оно отводит философии в творческой биографии Пастернака отрицательную роль противоядия, оставляя открытым вопрос — какой положительный след могла оставить в его поэтическом мире эта интенсивная, хотя и ограниченная по времени вовлеченность в проблемы критики познания? И почему он выбрал противо-интуитивную дорогу, в сознании трагического тупика, к которому она может вести (святая нарушает обет послушания, Клейст, «почти безумный от аскетического прилежания»[44], кончает самоубийством), а не такую, которая могла бы послужить ему, как многим его современникам, непосредственной интеллектуальной опорой?[45] Помог ли ему этот путь что-либо обрести, а не только чего-то избежать?