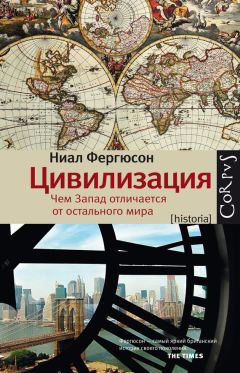В 60-х – 70-х годах, когда “Ливайс” занялась экспортом, стало ясно, что “одежда Америки” столь же привлекательна и для неамериканцев. В глазах молодежи всего мира джинсы символизировали поколенческий бунт против скучной одежды послевоенной эпохи. Джинна джинсов выпустили из бутылки (бутылка эта была, скорее всего, стеклянной емкостью из-под “Кока-колы”). Казалось лишь вопросом времени, чтобы компания “Ливай Стросс и К°” смогла “одеть весь мир”. “Мир стал ‘страной синих джинсов’”, – объявил в 1972 году журнал “Лайф”[600]. На мировом рынке “Ливайс” следовал рецепту менеджеров “Кока-колы”. Коричневая шипучка, изобретенная в 1886 году, когда Джон Пембертон сатурировал настой листев коки и орехов колы, по популярности обошла даже продукцию “Зингер”. Уже в 1929 году “Кока-кола” провозгласила себя “международным напитком”. Тогда она продавалась в 78 странах, в том числе в Бирме (ее логотип красовался у входа в Шведагон, что порождало диссонанс)[601]. Во время Второй мировой войны “Кока-кола” умудрялась управлять 64 заводами по розливу на 6 театрах военных действий, а в 1973 году, в разгар Вьетнамской войны, компания открыла завод в Лаосе.
Однако и для “Ливайс”, и для “Кока-колы” европейский “железный занавес” оставался непроницаем. Владелец “Кока-колы” Роберт У. Вудрафф принципиально отказался участвовать в Американской национальной выставке в Москве в июле 1959 года: во время открытия выставки вице-президент Ричард Никсон угостил Никиту Хрущева “пепси”[602].
Во времена холодной войны было ясно, где “Запад” и где “Восток”. Восток начинался на Эльбе, где проходила граница ФРГ и ГДР, а заканчивался на границе между КНДР и Республикой Корея. Однако настоящему Востоку – от Ближнего до Дальнего – казалось, будто мир был просто разделен между двумя Западами, капиталистическим и коммунистическим. Их лидеры выглядели похоже. СССР во многом стремился подражать США, производя то же оружие и те же товары народного потребления. Хрущев во время “кухонных дебатов” с Никсоном недвусмысленно дал понять, что Советы желали догнать Америку. Да и одежда этих двоих лидеров не слишком различалась. Никсон, одетый в черное и белое (будто в насмешку над цветным телевидением, которое он, как предполагалось, рекламировал), был похож на строгого калифорнийского адвоката, кем он, в сущности, и был. А Хрущев в своем светлом костюме походил на конгрессмена-южанина, перебравшего мартини за ланчем.
Подобно молодежи во всем мире, подростки в СССР и его сателлитах в Восточной Европе жить не могли без джинсов. Действительно странно, что главный послевоенный конкурент США не сумел скопировать эти в высшей степени простые вещи. Казалось бы, повальное увлечение денимом на Западе должно было облегчить Советам существование: ведь СССР, как считалось, был пролетарским раем, а сшить джинсы гораздо проще, чем, скажем, брюки “Стейпрест” с “вечной стрелкой” (еще одно изобретение “Ливай Стросс”, предложенное потребителям в 1964 году). И все же коммунисты так и не разглядели потенциал джинсов как культовой одежды трудолюбивых советских рабочих. Увы, вместо этого джинсы и поп-музыка, с которой они скоро стали неразрывно связаны, превратились в главные символы западного превосходства. И, в отличие от ядерных ракет, джинсы были пущены в ход против Советов: показы “Ливайс” состоялись в Москве в 1959 и 1967 годах.
Если вы в 60-х годах были бы студентом и жили за “железным занавесом”, например в Восточном Берлине, вы не пожелали бы носить пионерскую форму (в духе бойскаутской). Вы захотели бы одеваться так, как пижоны с Запада. Штефан Волле в то время был восточногерманским студентом: “Сначала [купить джинсы в ГДР] было невозможно. Джинсы считались воплощением англосаксонского культурного империализма. Ношение их слишком строго порицалось, вы не могли их купить. [Но] многие просили своих родственников с Запада присылать им джинсы… Те присылали, и вид джинсов выводил из себя преподавателей, начальников и полицейских на улице. Это породило черный рынок западных товаров, который, судя по всему, представлял для государства опасность”[603]. Стремление людей заполучить этот предмет одежды было настолько сильно, что советские правоохранительные органы придумали термин “джинсовая преступность”, – “правонарушения, вызванные желанием любыми средствами приобрести предметы из хлопчатобумажной ткани”. В 1986 году Режи Дебре, французский левый философ и бывший соратник Че Гевары, отмечал: “Рок-музыка, видео, джинсы, фаст-фуд, новостные сети и спутниковое ТВ сильнее, чем вся Красная армия”[604]. Это стало ясно к середине 80-х годов. Но в 1968 году это суждение было совсем не бесспорным.
От Парижа до Праги, от Берлина до Беркли, даже в Пекине 68-й стал годом революции в разных ее проявлениях[605]. Движущей силой во всех этих случаях выступала молодежь. Редко когда в современную эпоху люди в возрасте 15–24 лет составляли столь заметную долю населения, как в 1968–1978 годах. Снизившись в середине 50-х годов до 11 %, в середине 70-х годов доля молодежи в американском обществе достигла пика – 17 %. В Латинской Америке и Азии она превысила 20 %. При этом рост доступности высшего образования, особенно в США, означал, что больше, чем когда-либо, юношей и девушек училось в университете. К 1968 году студенты составляли более 3 % населения США (в 1928 году их было менее 1 %). Те же тенденции, пусть и в более скромных масштабах, отмечались и в Европе. У бэби-бумеров – молодых, образованных, преуспевающих – были все основания благодарить поколение своих отцов, сражавшихся за свободу и давших им широкие возможности. Вместо этого бэби-бумеры восстали.
22 марта 1968 года студенты захватили зал Ученого совета университета Париж X – Нантер (этот уродливый бетонный кампус прославился как “безумный Нантер”), а к маю десятки тысяч студентов, включая учащихся элитарной Сорбонны, уже дрались с полицейскими на улицах Парижа[606]. Страну охватила всеобщая забастовка: профсоюзы воспользовались возможностью потребовать у ослабленного правительства повышения заработной платы. События, подобные парижским, повторились в Беркли, в Свободном университете в Берлине и даже в Гарварде (здесь “Студенты за демократическое общество” заняли резиденцию президента университета, а члены “Рабоче-студенческого альянса” захватили административный корпус, временно переименованный в честь Че Гевары, и изгнали преподавателей).
На первый взгляд, восстание в кампусах было направлено против войны США за независимость Южного Вьетнама, которая к 1968 году унесла жизни более 30 тысяч американцев и во многом потеряла общественную поддержку. Кроме того, “поколение 68-го года” поддерживало негритянское движение за гражданские права: типичный либеральный вызов пережиткам расового неравенства на американском Юге. И все же риторика 1968 года по большей части была марксистской и описывала почти каждый конфликт от Израиля до Индокитая как антиимпериалистическую борьбу. По мнению самых радикальных студенческих лидеров (Даниэля Кон-Бендита, “красного Дэнни”, Руди Дучке и других), следовало стремиться к “восстанию в центрах капитализма”. “Человечеству не видать счастья, – объясняли ‘бешеные’, – пока последнего капиталиста не удавят кишками последнего бюрократа”. Подобно анархистам, ситуационисты хотели отменить сам труд и убеждали своих сторонников-студентов: не работайте (ne travaillez jamais)![607] Выдвигалось еще одно деловое требование, красноречивее слов говорившее об истинных целях революции: неограниченный доступ мужчин в женские общежития (отсюда предписание – “раскрывай ум так же часто, как ширинку”). Безымянный автор граффити сформулировал так: “Чем сильнее я хочу заняться любовью, тем сильнее я хочу революции. Чем сильнее я хочу революции, тем сильнее я хочу заняться любовью”[608]. Студенток призывали экспериментировать с обнаженностью. Революция 1968 года во всем, от мешковатых “пижам” хунвейбинов до “клешей” хиппи, проявлялась в одежде, а сексуальная (от мини-юбки до бикини) – в ее отсутствии. “Женщины должны отказаться от роли главных потребителей в капиталистическом государстве”, – объявила родившаяся в Австралии феминистка Жермен Грир, которая любила вечеринки сильнее партии[609].
Ирония заключается, во-первых, в том, что “поколение 68-го года”, обличавшее преступления американского империализма во Вьетнаме и колотившее в знак протеста витрины парижского офиса “Американ экспресс”, было хронически зависимым от американской массовой культуры. Синие джинсы – теперь клеш и с низкой талией – остались униформой молодых бунтарей. Компании грамзаписи взяли на себя музыкальное сопровождение: Street Fightin’ Man “Роллинг стоунз” (выпущена фирмой “Декка” в декабре 1968 года) и Revolution “Битлз” (выпущена “Эппл”, собственным лейблом группы, четырьмя месяцами ранее). Заметим, что обе песни выражают сомнение в пользе революции. Брюки из денима и виниловые пластинки: вот одни из самых успешных продуктов капитализма конца XX века. Как и в 20-х годах, “сухой закон” – на сей раз в отношении наркотиков – создал новые возможности для организованной преступности. Французские ситуационисты могли осуждать общество потребления с его тупым материализмом и вездесущей рекламой (Ги Дебор насмешливо назвал его “обществом спектакля”), но парижские борцы с капитализмом недооценивали блага, которыми сами были обязаны системе. За исключением удара-другого дубинкой от обывателей в полицейской форме, презиравших привилегированных “волосатиков” из среднего класса, студенты в целом получили возможность выразить свое недовольство. Большинство университетов уступило их требованиям.