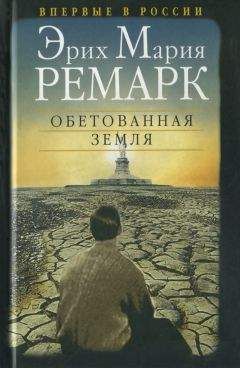— Ты уходишь? — встревожилась она.
Я покачал головой:
— Только спущусь в киоск купить вечернюю газету. И сразу вернусь.
— И принесешь в дом войну, — огорчилась она. — Неужели не можешь даже одну ночь без этого прожить?
Я с изумлением посмотрел на нее.
— Я не принесу войну в дом, — возразил я. — Я просто спущусь вниз, просмотрю последние новости и потом вернусь не спеша в эту вот комнату, про которую я знаю, что сейчас в ней ты и ты меня ждешь, и испытаю давно забытое счастье, когда знаешь, что тебя ждут, и впереди ночь, и эта комната с тобой. Это величайшее приключение из всех, какие я только могу вообразить: обывательский уют без всякого страха, — хотя для самих обывателей в этих словах, возможно, и есть пренебрежительный, мещанский привкус, но только для них, а не для нас, скитальцев, современных потомков Агасфера.
Она поцеловала меня.
— Кто так много говорит, пытается скрыть правду. Но что мне делать с мужчиной, способным бросить меня ради газеты?
— Ты ведь тоже цыганка, — сказал я. — Даже почище меня. Так и быть, я остаюсь. Пусть время остановится на один день.
Мария засмеялась. Я привлек ее к себе. Я не стал ей говорить, зачем мне вдруг так срочно понадобилась газета. Вовсе не из-за новостей. Я хотел проверить, как долго продлится для меня этот кусочек мира, внезапно ворвавшегося в мое существование. «Милая, чужая жизнь! — мысленно молил я. — Останься со мною! Не покидай меня, прежде чем мне придется покинуть тебя!» И в то же время я знал, как все было лживо, с привкусом предательства и обмана. Однако у меня недоставало сил об этом думать, Мария была слишком близко, а все другое пока что слишком далеко. Сколько еще всего за это время может случиться, и кто знает, кто что раньше оставит? Я чувствовал губы Марии, ее кожу, ее тело и больше не думал ни о чем. Глубокой ночью я ненадолго проснулся и снова услышал за стенкой звуки пианино. Кто-то робко, неумело играл сонату Клементи — когда-то, в другой жизни, и я вот так же ее разучивал. Рядом со мною лежала Мария, обессиленная, глубоко и ровно дышавшая во сне. Глядя через большое окно в освещенную ночь, я думал о своей забытой юности. Потом снова услышал дыхание Марии. И опять мне показалось, что мы с ней висим на воздушном шаре в мертвом штиле посреди торнадо. «Будь благословен, — думал я, — о ты, приют первобытного покоя в этой ночи!»
— Джесси Штайн на днях будут оперировать, — сказал мне Роберт Хирш.
— Что-нибудь опасное? Что с ней?
— Точно пока не известно. Опухоль. Боссе и Равич ее обследовали. Но ничего не говорят. Врачебная тайна. Вероятно, только операция покажет, какая у нее опухоль — доброкачественная или нет.
— Рак? — спросил я.
— Ненавижу это слово, — процедил Хирш. — После слова «гестапо» самое мерзкое слово на свете, какое я знаю.
Я кивнул:
— Джесси подозревает что-нибудь?
— Ей сказали, что это совершенно безобидная, пустяковая операция. Но она же недоверчива, как лисица.
— Кто будет оперировать?
— Боссе и Равич вместе с одним американским врачом.
Мы некоторое время помолчали.
— Совсем как в Париже, — проронил я. — Тогда Равич оперировал вместе с одним французским врачом. Тоже по-черному, нелегальным хирургом.
— Равич говорит, это уже не совсем так. Здесь он вроде как серый. За операцию его уже не посадят.
— Ты получил тогда деньги для Боссе? После нашей карательной экспедиции?
Хирш кивнул:
— Да, это было совсем просто. Но Боссе не захотел их брать! Я чуть не избил его, пока не заставил взять свои же деньги. Он считает, что мы добыли их шантажом! Его же собственные деньги! Понятия о чести у некоторых эмигрантов — с ума сойти! — Он усмехнулся. — Сходи к Джесси, Людвиг. Я уже был и еще раз пойти не могу — она сразу насторожится. Ей страшно. А утешитель из меня никудышный. Страх других меня раздражает, делает сентиментальным и нетерпеливым. Навести ее. У нее сегодня как раз немецкий день. Она считает, что, когда кто-то болен, не обязательно ломать язык и говорить на ломаном английском. Ей нужна помощь. Участие людей.
— Сегодня же вечером пойду, как только закончу у Реджинальда Блэка. Кстати, Роберт, как поживает Кармен?
— Обворожительна и непостижима, как всякое истинное простодушие.
— Разве бывают женщины, которых можно назвать истинно простодушными? Глупые — да, но чтобы простодушные…
— Простодушие всего лишь слово, как и любое другое. Как глупость или лень. Но для меня оно означает некое драгоценное царство не поддающейся пониманию антилогики, если угодно — полный кич, по ту сторону всяких ценностей и фактов, царство чистой фантазии, чистой случайности, царство чувств без капли честолюбия, безграничное безразличие ко всему, то есть нечто такое, что меня очаровывает, потому мне совершенно чуждо.
Я посмотрел на Хирша с сомнением:
— И ты всему этому веришь?
Он рассмеялся:
— Конечно нет, потому меня это и очаровывает.
— Ты и Кармен все это рассказывал?
— Разумеется, нет. Она бы и не поняла ничего.
— Ты вот сейчас наговорил кучу всяких слов, — сказал я. — Ты что, считаешь, что это все так просто?
Хирш поднял на меня глаза:
— Полагаешь, я ничего не смыслю в женщинах?
Я покачал головой:
— Нет, я так не считаю, хотя вообще-то для героев вполне естественно ничего в них не смыслить. Победители обычно не слишком в этом разбираются, зато побежденные…
— Почему в таком случае победители считаются победителями?
— По той причине, что понимать что-то еще не значит победить. Особенно когда дело касается женщин. Это одна из бессмыслиц жизни. Но и победители, Роберт, тоже не всегда остаются победителями. А простые вещи не стоит без нужды усложнять, жизнь и без того достаточно сложна.
Хирш махнул продавцу в белом халате за стойкой драгстора, где мы доедали свои гамбургеры.
— Ничего не могу с собой поделать, — пожаловался он. — Эти продавцы до сих пор напоминают мне врачей, а драгстор — аптеку. Даже гамбургеры, на мой вкус, отдают хлороформом. Тебе не кажется?
— Нет, — сказал я.
Он усмехнулся:
— Что-то мы сегодня наговорили много пустых слов. Ты тоже. — Он взглянул на меня: — Ты счастлив?
— Счастье? — проговорил я. — А что это такое? Я думаю, какое-то понятие из девятнадцатого столетия.
— Да, — подтвердил он, — что это такое? Я тоже не знаю и не особенно стремлюсь узнать. Думаю, я бы и представления не имел, что мне с ним делать.
Мы вышли на улицу. Мне вдруг почему-то стало страшно за Хирша. Как-то никуда он не вписывался. А меньше всего в свой магазин радиотоваров. Он был в своем роде конкистадор. Но что было делать в Нью-Йорке еврею-конкистадору, если военное министерство его уже отсеяло в связи с неблагонадежностью?
Джесси возлежала на тахте в халате цвета семги, воплотившем, вероятно, мечту бруклинского портняжки об одеянии китайского мандарина.
— Ты как раз вовремя, Людвиг, — сказала она. — Завтра меня отправляют на заклание.
Раскрасневшаяся, с лихорадочным блеском в глазах, Джесси источала фальшивую жизнерадостность. Но на ее круглом личике застыл страх, который она тщетно силилась в себе заглушить. Казалось, страхом были заражены даже ее волосы — они буквально стали дыбом вокруг ее головы и топорщились на затылке, словно у перепуганной негритянки.
— Перестань, Джесси, — сказал Равич. — Вечно ты все преувеличиваешь. Мы проведем завтра обычное обследование. На всякий случай.
— На какой случай? — быстро спросила Джесси.
— На случай заболевания. Мало ли у человека болячек.
— На случай какого заболевания?
— Да не знаю я, Джесси! Я же не ясновидящий. Для того мы тебя и оперируем. Но я скажу тебе всю правду.
— Точно скажешь?
— Точно скажу.
Джесси дышала мелко и часто. Чувствовалось, что Равичу она не вполне верит. И спрашивает его, наверное, уже в двадцатый раз.
— Хорошо, — сказала она наконец и обратилась ко мне: — Ну что ты скажешь про Париж?
— Он свободен, Джесси. — Я правда не знал, что еще сказать.
— Все-таки я дожила, — пробормотала она чуть слышно.
Я кивнул:
— И до освобождения Берлина доживешь, Джесси.
Она помолчала немного.
— Ты лучше съешь чего-нибудь, Людвиг. В Париже ты вечно ходил голодный. Там мои двойняшки кофе приготовили и пирог. Мы не собираемся грустить. Все происходит так быстро. Сперва Париж, потом это. И прошлое вдруг совсем рядом. Как будто все было вчера. Но ты не думай об этом! А знаешь, какое хорошее все же было время, несмотря ни на что, особенно по сравнению вот с этим. — Она кивнула на тахту и на себя, лежащую на ней. — Ладно, иди скорее, выпей кофе, Людвиг. Кофе свежий. Вон Равич уже побежал. — Она наклонилась ко мне с видом заговорщицы. — Я ему не верю! — прошептала она. — Ни единому слову!