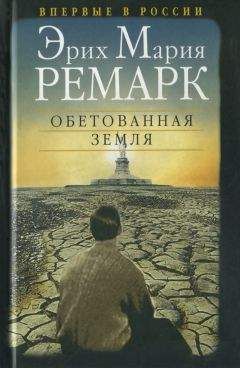— А мне?
— И тебе тоже, Людвиг! А теперь иди и поешь!
В комнате набралось уже человек десять. И Боссе был здесь — он сидел у окна, уставившись на улицу. Там было тепло и пасмурно, как если бы собирался дождь, а у неба был цвет белого пепла. Окна были закрыты, с орехового комода ровно, как большая усталая муха, жужжал вентилятор. Близняшки Даль вошли с кофе, штруделем и сливовым пирогом, пританцовывая, как пара пони. В первый миг я их даже не узнал. Они теперь снова стали блондинками — в узеньких коротких юбочках и хлопчатобумажных, в поперечную полоску, свитерках с коротким рукавом.
— Очень аппетитные, правда? — спросил кто-то у меня за спиной.
Я обернулся. Это конечно же был Бах, тот самый человек, который все никак не мог выяснить, какая из близняшек позволяет ему безнаказанно щипать себя за зад.
— Весьма, — согласился я, радуясь возможности подумать о чем-то другом. — Только при мысли о романе с одной из них как-то голова кругом идет, уж больно похожи.
— Двойная гарантия! — В подтверждение своих слов Бах энергично кивнул и разделил на части кусочек штруделя. — Одна умрет, можно сразу на второй жениться. Ни забот, ни хлопот! Где еще такое найдешь?
— Что за жуткая мысль! В последний раз вы помышляли только об одном — как бы так ловко добраться до симпатичных задиков этих двойняшек, чтобы вас при этом не облили кофе. А теперь уже и жениться надумали. Весьма предусмотрительный идеалист.
Бах покачал обрамленной черными волосиками лысиной, сильно смахивающей на задницу павиана. Он недоверчиво молчал.
— Мне вот даже в голову не пришло, что можно жениться на них по очереди, — пояснил я. — А уж о смерти я и подавно не подумал.
— Разумеется, нет, легкомысленный вы гой! О чем же еще думать, когда любишь? О том, что кто-то из двоих рано или поздно умрет и тогда второй останется один! Это древнейший страх, только слегка модифицированный. Из первобытного примитивного страха собственной смерти посредством любви возникает страх за другого. — Бах слизнул с кончиков пальцев сахарный песок. — Это пытка! Так что близнецы тут самый лучший выход. Особенно такие.
Близняшки Даль как раз протанцевали мимо нас — Джесси потребовала принести к своей постели берлинские гравюры.
— И вы можете жениться на любой не раздумывая? — поинтересовался я. — Их же все равно друг от дружки не отличить, даже, наверное, по характеру. Бывает ведь и такое сходство. Или будете сами с собой жребий бросать?
Бах печально посмотрел на меня сквозь стекла пенсне под кустистыми бровями.
— Смейтесь-смейтесь над старым, бедным, лысым евреем, к тому же еще и без родины, — сказал он наконец. — Эти красотки не для меня. Это девочки для Голливуда.
— А вы? Вы ведь тоже актер?
— Я играю крохотные роли. К несчастью, исключительно нацистов. С перекрашенными волосами, разумеется, и в парике. Даже чудно: у них в Голливуде нацистов одни евреи играют. Можете себе представить, как себя при этом чувствуешь? Полностью морально разбиты. По счастью, нацистов в кино тоже иногда убивают, а то даже не знаю, как бы я это выдерживал.
— По-моему, куда хуже, будучи евреем, играть еврея, которого убивают нацисты, разве нет?
Бах молча посмотрел на меня.
— Об этом я как-то не думал, — сказал он, помедлив. — Ну и фантазия у вас! Нет, евреев в основном звезды играют. Не евреи, разумеется. Безумный мир!
Я огляделся. К счастью, составителя кровавого списка здесь не было. Зато я увидел писателя Франке. Когда к власти пришли нацисты, он выехал из страны вместе с женой-еврейкой, но сам при этом евреем не был. Когда они добрались до Америки, жена его бросила. Полгода Франке прожил в Голливуде. На такой срок киностудии заключали в ту пору контракты с известными писателями-эмигрантами, чтобы тем легче было обжиться в чужой стране; подразумевалось, что взамен писатели что-нибудь напишут для киностудий. Почти все оказались неспособны на это. Слишком велика разница между книгами и киносценариями, да и писатели были слишком стары, чтобы переучиваться. Контрактов с ними не возобновляли, и они обременяли собой благотворительные организации, вынуждены были там попрошайничать или жить на средства частных спонсоров.
— Не могу я этот язык выучить! — жаловался Франке с отчаянием в голосе. — Просто не могу, и все! Да и какой от этого прок? Говорить и писать — совершенно разные вещи, как день и ночь.
— А по-немецки вы не пишете? — поинтересовался я. — На будущее.
— О чем? — переспросил он. — О моей здешней нищете? А зачем? Когда я уезжал из Германии, мне было шестьдесят. Сейчас мне за семьдесят. Старик. Книги мои там запрещены и сожжены. Думаете, кто-то еще помнит меня?
— Да, — сказал я.
Франке покачал головой:
— Десять лет немцам обрабатывали мозги, и так просто этот яд из голов не вытравишь. Вы видели кинохронику с их партийных съездов? Эти десятки тысяч ликующих лиц и орущих глоток? Их ведь никто не заставлял. Я устал, — добавил он вдруг. — Знаете, чем я зарабатываю на жизнь? Даю уроки немецкого двоим американским офицерам. Им это пригодится, когда они оккупируют Германию. Мне их прислала жена. Моя жена бегло говорит по-русски, по-французски и по-английски. А я ни на каком. Зато мой сын, который с ней остался, уже не говорит по-немецки. — Он вымученно улыбнулся: — Граждане мира, да?
Я пошел к Джесси попрощаться. Говорить с ней было трудно: она не верила ни врачам, ни мне, ни кому бы то ни было. Лежала, уйдя сама в себя, только глаза, лихорадочно поблескивая, беспокойно бегали туда-сюда.
— Ничего не говори, — прошептала она. — Хорошо, что ты пришел, Людвиг. А теперь иди. И запомни, ничего не страшно, пока ты здоров. Это главное, чему я научилась за эти дни.
Я прошел мимо Боссе. Он по-прежнему сидел у окна, глядя на улицу. Там тем временем все-таки начался дождь. Асфальт стал мокрым и заблестел. Бесполезно было расспрашивать Боссе о Джесси. Он рассказал бы мне не больше, чем Равич.
— Париж освободили, — сказал я вместо этого.
Боссе поднял на меня глаза.
— Да, — сказал он рассеянно. — А Берлин бомбили. У меня жена в Берлине.
Я поставил на стол перед Мойковым бутылку.
— Боже мой! — изумился он. — Напиток богов! Настоящая русская! Еще одна бутылка! Откуда она у тебя? Из русского посольства?
— От Марии. Это она тебе прислала — в подарок к твоему восьмидесятилетию.
— Разве у меня сегодня? — Мойков глянул на газету. — Может быть. После семидесяти я перестал об этом думать. Да и русский календарь отличается от западного.
— Мария знает и тот и другой, — сказал я. — Она знает кучу самых неожиданных вещей, зато порой не знает самых простых.
Мойков бросил на меня пытливый взгляд. Потом расплылся в своей доброй, широкой улыбке.
— Как каждая русская. Хотя сама она не русская. Благослови ее Бог.
— Она же утверждает, что у нее русская бабушка.
— Женщины не обязаны говорить правду, Людвиг. Это было бы слишком скучно. Но они и не лгут, просто они большие мастерицы приукрашивать. Сейчас вот у многих появились русские бабушки. После войны это быстро кончится. Тогда русские будут уже не союзниками, а просто коммунистами. — Мойков посмотрел на бутылку. — Вот и все, что осталось от тоски по родине, — вздохнул он. — Не сама страна, в которой ты родился, а только ее национальный напиток. Чего ради, кстати, ваши евреи поднимают такой шум из-за своей тоски по Германии? Им же не привыкать к жизни без родины. Они самые древние эмигранты на свете — с тех пор как римляне разрушили Иерусалим, а это было две тысячи лет назад.
— Они начали скитаться еще раньше, со времен Вавилона. Но как раз поэтому они и тоскуют по родине. Повсюду в мире евреи — самые неисправимые патриоты. Своей родины у них нет, вот они и ищут, не зная покоя, новую.
— Неужели так никогда и не поумнеют?
— Ну а как иначе? Жить-то им где-нибудь надо.
Мойков бережно откупорил бутылку. Пробка была маленькая и какая-то очень уж дешевая.
— Евреи всегда были самыми верными патриотами Германии, — продолжал я. — Даже бывший кайзер знал это.
Мойков понюхал пробку.
— И что же, снова патриотами станут? — спросил он.
— Их не так много осталось, — ответил я. — Особенно в Германии. Так что вопрос до поры до времени исчерпан.
— Их всех поубивали?
Я кивнул:
— Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом, Владимир. Как себя чувствует человек в восемьдесят лет?
— Тебя это правда интересует?
— Да нет. Просто так спросил, от смущения.
— Слава богу! А то я уж начал было в тебе разочаровываться. Не стоит бестактными вопросами принуждать людей к бестактным ответам. Отведаем лучше водки!
Но тут на входе послышались характерные припрыгивающие шаги Лахмана.
— А ему что здесь понадобилось? — удивился я. — Он же вроде нашел себе кассиршу из кинотеатра, на которую теперь молится.